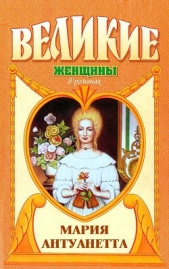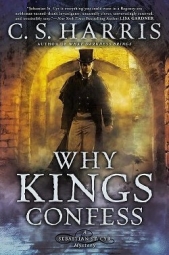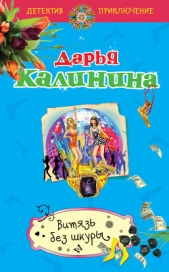Мемуары. Избранные главы. Книга 2

Мемуары. Избранные главы. Книга 2 читать книгу онлайн
Полные и дополненные воспоминания герцога де Сен-Симона о веке Людвика XIV и Регентстве. Это история не личной жизни и не отдельных частных жизней. Это история целой четко обозначенной эпохи, "века Людовика XIV".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я доставил себе небольшое удовольствие, на которое герцог Орлеанский, как будущий регент королевства, не решился. Я пошел повидать Поншартрена, у которого почти не бывал, и упал туда, как бомба, что оказывается крайне печальным и досадным и для бомбы, и для тех, на кого она падает, однако на сей раз так было лишь для них, а мне доставило двойное удовольствие. Министры были весьма обеспокоены своей судьбой. Их все еще сдерживал страх перед королем: ни один из них не смел пока перекинуться к герцогу Орлеанскому; бдительность герцога Мэнского и боязнь г-жи де Ментенон держали их на коротком поводке, потому что у короля осталось достаточно сил, чтобы прогнать их, и в таком случае они не могли бы льстить себя надеждой, что герцог Орлеанский сочтет их пострадавшими из-за него, а были бы лишь жертвами собственной нерешительной и мешкотной политики. Я же хотел насладиться замешательством Поншартрена и доставить себе удовольствие поиграть с этим гнусным циклопом. [37] Он сидел, запершись, с Бэзоном и д'Эффиа, однако слуги его после секундной нерешительности не посмели не впустить меня. Итак, я вошел в кабинет, и моему взору открылись три человека, так близко сидевшие друг к другу, что головы их соприкасались; при моем появлении они словно внезапно пробудились, и от меня не ускользнуло выражение досады на лицах, которое мгновенно сменилось любезным с примесью замешательства, вызванного моим докучным присутствием. Я видел, что прервал их совещание и мешаю им, это меня весьма развеселило, и потому я отнюдь не собирался уходить, как сделал бы в любое другое время. Они же надеялись на это, однако, видя, что я завел разговор о всяких пустяках, как человек, не понимающий, что его присутствие нежелательно, Эффиа сухо откланялся, Безон следом за ним, и они ушли. Поншартрен до сей поры не принимал и не придавал значения Безону, но, как только ощутил потребность в герцоге Орлеанском, объявил, что он с Безоном в родстве. Он сделался его покровителем, а Безон, который благодаря своей преданности герцогу Орлеанскому вошел в его окружение и подружился с д'Эффиа, привлек последнего на сторону Поншартрена. Как только они вышли, я позволил себе пошутить, сказав, что, кажется, я им помешал и мне лучше уйти. Рассыпая любезности, Поншартрен наговорил достаточно много такого, чтобы я мог сказать ему, что сейчас у него были люди, которые способны оказаться ему весьма полезными. Мысль об изменяющей ему фортуне до такой степени ослепила его, что он даже не заметил, что я стараюсь разговорить его, чтобы над ним посмеяться; забыв все свои козни и все, что произошло между нами, он весьма обнадежился моим визитом и беседовал со мною со своего рода доверием, смешанным с почтительностью, какая до сей поры была ему неведома. Я даже не дал себе труда завлекать его неопределенными любезностями и придворными речами; он сам пошел на крючок, толковал мне о своих горестях, тревогах, затруднительном положении, наконец произнес целую апологию насчет своего отношения к герцогу Орлеанскому, признался, что прибег к Безону, а через него к д'Эффиа, нахваливал их дружественность и благодеяния — воплощение ничтожества, он унизился до такого слова! — которые они оказали ему, и, все время возвращаясь к своим тревогам, то тут, то там подпускал намеки, как бы он желал моего покровительства и в каком был замешательстве, не осмеливаясь попросить меня о нем. Достаточно натешившись подобным пресмыкательством, я сказал ему, что поражен, как умный человек вроде него, настолько знающий двор и свет, может быть обеспокоен тем, что станется с ним после смерти короля, которому, в сущности, — тут я со значением глянул на него-по всем признакам осталось недолго жить; сказал, что при его таланте и опыте в морских делах он может быть уверен, что никто тут с ним не сравнится, и герцог Орлеанский был бы чрезвычайно счастлив, если бы он продолжал исполнять эту столь необходимую и важную должность, на которой человек, подобный ему, никем, кто имеет хотя бы малейшее представление о ней, не может быть заменен. У меня было ощущение, что я вернул его к жизни, но, будучи крайне многословен, он неоднократно возвращался к своим тревогам, которые я старался рассеивать отнюдь не до конца, с удовольствием наблюдая, как он покрывается бледностью, но затем теми же самыми словами убеждая его, что он незаменим на своем месте, что его невозможно сместить и потому, уверенный в сохранении своей должности, он может спокойно жить, ни в ком не нуждаясь. Эта прелестная комедия заняла у меня добрых три четверти часа. Я всячески старался, чтобы ни одно мое слово не прозвучало намеком на предложение поста, совет или изъявление былой дружбы, лишь время от времени говорил что-нибудь, чтобы поддержать поток его словоизвержения, и узнал, что Безон и д'Эффиа выказали себя его покровителями. От герцога же Орлеанского я неизменно слышал заверения, что он не оставит его на этом посту и объявит, что сделает выбор из членов совета по морским делам.
Демаре, чувствовавший себя столь же неуверенно, как Поншартрен, вдруг вспомнил о моем существовании. Лувиль, зять брата г-жи Демаре, пришел поговорить со мной насчет него. Он всегда был моим близким другом, и для него не было тайной ни мое поведение по отношению к Демаре, ни то, как тот поступил со мной. Лувиль пересказал мне изъявления почтения Демаре, его сожаления, его пожелания и подкрепил их собственными доводами и красноречием. Я не открыл ему, что удаление Демаре — дело уже решенное, однако сказал, что Демаре, на мой взгляд, слишком поздно раскаялся и что для меня он человек, на которого я до сих пор умел не обращать внимания и о котором не желаю слышать до конца своих дней. Следствием этого отказа было до крайности назойливое письмо герцогини де Бовилье, писавшей также и от имени герцогини де Шеврез, в котором, пытаясь расположить меня в пользу Демаре, в качестве последнего довода приводилось его знание финансов и потребностей государства в этой важнейшей области. Я ответил как можно почтительней, с изъявлениями преданности и покорности, но решительно отказал в помощи Демаре, правда, не объясняя, чего ему опасаться и на что надеяться, и, таким образом, дважды непреклонно отказав, я избавил себя от новых ходатайств и усугубил страх этого грубого и наглого министра, а также его раскаяние в своей глупой неблагодарности по отношению ко мне.
В тот же четверг 22 августа, когда герцог Мэнский принимал вместо короля смотр тяжелой кавалерии, король перед отходом ко сну приказал герцогу де Ларошфуко завтра утром показать ему кафтаны, дабы выбрать, какой прилично надеть по снятии траура по сыну герцогини Лотарингской, принцу Франсуа, [38] умершему в возрасте двадцати шести лет. Из вышенаписанного видно, что король уже не мог сам ходить, в последние дни не одевался и велел относить себя к г-же де Ментенон, что он покидал постель, только чтобы в халате пообедать, что в его спальне и соседних комнатах ночевали врачи и что, наконец, он уже не мог глотать твердой пищи, однако же еще надеялся, как явствует отсюда, выздороветь, поскольку думал, что сможет еще одеться, и собирался выбрать, какой тогда надеть кафтан. Потому-то и следовали, как видно из вышеописанного, друг за другом советы, труды, развлечения, что люди не хотят умирать и, насколько возможно, стараются не думать о надвигающейся смерти.
Пятница 23 августа прошла, как и предыдущие дни. Утром король занимался делами с о. Телье, затем, не надеясь более посмотреть на тяжелую кавалерию, отправил ее в казармы. Необычным в этот день было то, что король ужинал не в постели, а надел халат и встал. После были развлечения, на которых присутствовала г-жа де Ментенон, а затем и ее приближенные дамы. Все эти дни — и это следует помнить — все сколько-нибудь знатные придворные сходились к его трапезам, а те же, кто имел право первого или большого входа, — к мессе, к концу одевания и к началу раздевания; это относилось и к герцогу Орлеанскому; остаток же дня, свободный от советов и трудов с министрами, король посвящал, как и в ту пору, когда был на ногах, побочным детям, причем чаще герцогу Мэнскому, нежели графу Тулузскому; герцог Мэнский нередко оставался у него, когда присутствовала только г-жа де Ментенон, а несколько раз и приближенные дамы, причем входил и выходил он по небольшой лестнице, расположенной за кабинетами, так что никто не видел, когда он приходит и уходит; тем же путем пользовался и граф Тулузский; г-жа де Ментенон и ее дамы проходили только через передние покои. Внутренняя прислуга обыкновенно пребывала при короле, когда он был в одиночестве или с побочными детьми, но почти всегда удалялась, если он оставался с глазу на глаз с герцогом Мэнским.