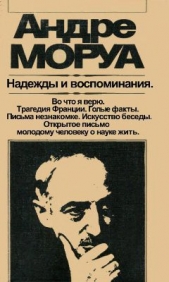Жизнь, подаренная дважды

Жизнь, подаренная дважды читать книгу онлайн
Григорий Бакланов известен прежде всего своей «военной прозой». Офицер — фронтовик, он создал произведения, занявшие видное место в русской литературе второй половины нашего столетия. Начало его писательского пути пришлось на послевоенную пору жесточайшего идеологического террора — борьбы с Зощенко и Ахматовой, с «безродными космополитами». Первые повести Бакланова — «Пядь земли», «Мертвые сраму не имут», роман «Июль 41 года» вызвали яростные нападки. Но писатель выдержал хулу, оставшись верен своим погибшим товарищам, «навеки девятнадцатилетним» (так называлась его следующая повесть). В книге воспоминаний Г. Бакланов не столько пишет о своей жизни, сколько осмысляет события XX столетия, свидетелем и участником которых ему довелось быть, а также рассказывает о видных деятелях культуры — А. Твардовском, К. Паустовском, Ю. Трифонове, В. Лакшине, Ю. Любимове, М. Хуциеве.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
XX век, явивший миру Гитлера и Сталина, печи Освенцима, Майданека и ГУЛАГ, отодвинул Наполеона куда-то далеко-далеко в череде палачей народов, и сияет только его полководческий гений, этого у него не отнимешь.
В училище у нас не было наполеонов, а были сильно примученные жизнью в эвакуации, голодными пайками и семьями обычные смертные люди с погонами на плечах. Командир нашей батареи говорил басовито, был весь налит мужицкой силой, ходил косолапя, носками вовнутрь, отчего выглядел еще могучей. Может, придумал я про него, но казалось мне, человек этот не в ладах со своею совестью: обучать да отправлять на фронт пацанов, а самому оставаться в тылу, что-то же должно царапать совесть. Конечно, кадры, как говорится, надо ковать, да мало ли раненых, искалеченных фронтовиков, без руки, без глаза? Однажды начал комбат за что-то отчитывать меня, а я возьми да глянь ему в глаза, а через них — в душу. И он, комбат, опустил взгляд. Но тут же задрожал ноздрями, побелел: «Как стоите, курсант? Смирна-а-а!..» Кто знает, может, и ошибаюсь, чужая душа — потемки. Может, поначалу и хотел он подать рапорт, чтоб отправили на фронт, но, не решившись сразу, постепенно смирился. Быт затягивал, быт унижал. И большинство обучавших нас строевых командиров и преподавателей, видимо, решили для себя эту проблему по принципу: жизнь отдам за родину, но на фронт не поеду.
Начальник училища, генерал, — высоко и далеко, видел ли я его когда-нибудь, не помню. Должен был видеть, конечно, хотя бы на построении, когда, получив офицерские погоны, проходили перед ним, чеканя шаг. А повседневную нашу жизнь более всех определял старшина. Известно, как старшины в армии обожают интеллигэнцию. А у нас в батарее, только у нас у одних, был курсант, в прошлом — профессор химии. Может быть, и не профессор, а только доцент. Может, даже и не доцент, просто закончил химический факультет: человек с высшим образованием. Но для старшины сладостней, чтоб — профэссор. И вот построена батарея в две шеренги на вытоптанном снегу: «Рравняйсь! Смиррна-а!.. Вольно». Вызывают из строя профэссора: «Два шага вперед!» Приказывают ему снять шинель. И этой его шинелью старшина обносит строй, обе шеренги, чтоб каждый посмотрел и убедился.
До войны, в журнале «Крокодил», прочел я, помнится, стихотворение московского милиционера:
Ох, как мы все мечтали о шинельке на вате, зима в Башкирии была суровая. Но у шинели только коротенькая подкладка хлопчатобумажная, чуть ниже лопаток. И вот наш профэссор догадался пришить подкладку к сукну изнутри, нащипал потихоньку ваты из тюфяка, из-под себя же самого, напихал ее под подкладку, утеплил спину и грудь. И старшина несет эту его шинель вдоль строя курсантов, в могучей вытянутой руке держит напоказ, чтоб каждый мог видеть, выщипывает из-под подкладки клоки ваты и брезгливо, как мышь за хвост, бросает эти клоки на снег: он же еще и артист неплохой. А профэссор в распоясанной гимнастерке с ремнем в руке стоит понуро меж двух шеренг, посинел весь на морозе, но ничуть нам его не жаль, гогочет строй.
Да, в армии воспитывают сурово. А еще и зимы у нас долгие, это тоже надо учесть. Намерзшиеся за день в поле, голодные идем вечером строем в столовую, и об одном мечта: горячего нутро просит. Сначала от горячего дрожь прохватит, а потом тепло пойдет изнутри, пойдет разливаться по телу. И уж тогда бы — в сон, слаще сна ничего нет. «Запевай!» Какая уж тут песня! «Зззапевай!» Но и мы уперлись: знаем, долго старшина держать нас не может, распорядок жесткий. «Нна месте! Запевай!» Топчем снег на месте — в ногу, в ногу, в ногу! — но не поем. А уже слышно, другая батарея нагоняет. «Бего-ом марш!» Врываемся к столам. Хлеб, каша пролетают, как будто их и не было. Тут, в столовой, тоже холодина, пар изо рта. Ничего, что не доели, доспим. Теперь бы чаю горячего. Но кружки из желтой глины — толстостенные, в них хоть кипяток лей, пьешь едва тепленькое. И опять бодрим себя мыслью: теперь только вечерняя поверка осталась и — отбой! Но старшина не забыл, старшины ничего не забывают. Построил, двинулись. «Запевай!» Можно бы теперь, как-никак согрелись все-таки, но характер на характер пошел. «Ложись!» Три раза в тот вечер клал он нас в снег: «Запевай!» — «Ложись!» — «Запевай!» — «Ложись!» И понял старшина, не глуп был от роду, ничего у него с нами так не получится: фронтовики. Приказ мы выполняем, приказ есть приказ, но вольничать не дадим. И виду не показывая, подобрел.
Из нынешнего далека жаль мне иногда нашего профэссора: не только не смог он постоять за себя, но, видимо, сломался в душе. А может, таким и был. Как-то вечером в столовой погас свет. Только успели за столы зайти, увидели — это первое, что глаза видят, — хлеб, а на тарелке лещи вяленые вместо каши. Сейчас назначим, кто будет делить, за ним во сто глаз смотреть, чтоб поровну. Вот тут-то свет и погас. И кто-то заметил, как одного леща профэссор опустил себе за голенище. В темноте все происходило молча. Его били лещами по лицу, по рукам, которыми он заслонялся, по лицу. Когда свет зажегся, он с кровью выдергивал из щек, изо лба остья от плавников. Тоже — молча. И не было жаль его в тот момент. Гадко — да, но не жаль. Не может, не должен человек так опускаться.
А посмешищем во взводе был курсант Евтушенко. Вот стоит он с винтовкой у караульного помещения. Что первым делом должен сделать он, если кто-то появился в поле зрения? «Пароль!» Не отвечает — «Стой, стрелять буду!» Не выполнил — «Ложись!» Один курсант, стоя на часах в артпарке, положил в снег аж командира дивизиона, который попробовал не выполнить его приказ, приказ часового. Положил и выстрелом вверх вызвал начальника караула. И пока тот не прибежал с пистолетом наголо, командир дивизиона лежал в снегу, материл его на чем свет стоит. Но лежал. Не помню, был ли курсант за это поощрен, но в училище все об этом знали. И существовали две легенды, каждая из них должна была укрепить наше сознание до полного отупения.
Первая. Часовой стоял у денежного ящика. Начался пожар. Начальник караула, разводящий — все забыли о нем. Но, не получив приказа, он не покинул пост. Так и сгорел заживо.
Вторая. Не помню, чтобы кто-либо верил в нее, но рассказывали это не раз: вот он, высший пример исполнения воинского долга! Мать приехала проведать сыночка. А сыночек — на посту. Он — часовой. «Стой, кто идет!» — «Сыночек…» — «Пароль!» И, действуя по уставу, верный долгу и приказу, сын застрелил родную мать…
А я любил стоять часовым: где еще остаешься стоять вот так один на один с самим собой, со своими мыслями. В мороз так в мороз, это перетерпеть можно. Зато все небо, все звезды ясные на тебя глядят, а ты — на них, и «ночь вином струится со штыка…» Хорошо думалось в такие ночи, о многом думалось. А ухо насторожено, как у волка спящего: начальство любило это веселое занятие, подкрасться неслышно, застать врасплох. Но для таких забав был у нас бедолага курсант Евтушенко.
Вот он — часовой. Из-за угла дома — грудь вперед, твердым увалистым шагом — командир батареи. Евтушенко и рта раскрыть не успел — «Как стоишь? Как винтовку держишь, мать твою!..» И его винтовка уже в руках командира батареи, а Евтушенко — столько-то нарядов вне очереди. Утром бежим в сапогах, в нательных рубашках по морозу — утренняя пробежка, — Евтушенко ломиком скалывает желтый лед на углах казармы: «удобства» в углу двора, далеко, ночью из-под одеяла бежать туда холодно. Вот и пристраиваются незаметно к углу дома. А кто-то утром скалывает лед.
И все же чувство справедливости было. Один из наших преподавателей оттого и стал нам отвратителен, что, подлаживаясь под общее настроение, тоже выбрал себе жертвой Евтушенко. Откинется на спинку стула, вытянет ноги: «Евтуше, ну что вы нам расскажете на этот раз?..» И ждет одобрительного смеха. Но взвод в большинстве своем хмуро молчит. Найдутся, конечно, и такие, что подхихикнут. А Евтушенко хоть знает, да уже растерялся, дрожит мел в его руке. И вот интересно: у него у единственного сохранились при такой кормежке пухлые щечки, ляжки прямо-таки женские, а носик уточкой. И такой крупный пот на носу выступит — смотреть жалко. По характеру или от робости был он услужливый и, может быть, неплохой парень, к тому, кто слово скажет доброе или заступится за него, готов был приласкаться, как щенок к ноге. Но робким в армии тяжело.