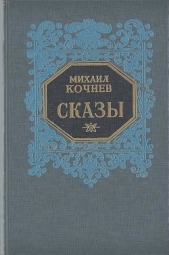Учите меня, кузнецы (сказы)
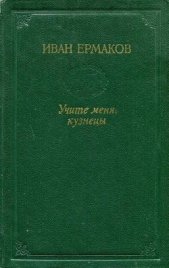
Учите меня, кузнецы (сказы) читать книгу онлайн
В однотомник избранных произведений Ивана Ермакова (1924—1974) вошло около двух десятков сказов, написанных в разные периоды творчества писателя-тюменца. Наряду с известными сказами о солдатской службе и героизме наших воинов, о тружениках сибирской деревни в книгу включен очерк-сказ «И был на селе праздник», публикующийся впервые. Названием однотомника стали слова одного из сказов, где автор говорит о своем стремлении учиться у людей труда.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Не видать Кенигсберга.
«Дом твой, дедушка, мама на снос продала. Иструхлявел снизу. Двор теперь бурьяном да крапивой зарос. Журавель у колодца сломался… А у меня все двойки, все двойки. И силы почему-то мало. Всякому поддаюсь. Кому не лень, щиплют меня. За вихорок. «Горошек, дай горошку». А еще девкиным сыном зовут. Потому что у меня не отец, а отчим. Когда любит, когда нет. Я его никогда не люблю. Боюсь. А еще…»
Все свои обиды-горести поведает дедову тополю Савостька. И никнет белая неприласканная головка. В синих глазах дальняя-дальняя, совсем не ребячья думка. Даже любопытной, рядом присевшей пичужки не замечают они. Вот задрожали, сломались вдруг губы, и гасит тополиный шелест их горестный шепот:
— Дедушка, дедушка! Почему не дождался Савостьку? Вместе бы смертью храбрых пали…
Однажды по сумерочкам пригорюнился он вот так же, обнявши тополь, и не заметил, как подкралась к деревне гроза. Гулко и неожиданно рявкнул вольный гром. Поначалу Савостька от каждой внезапной, прострельно-огненной, яростной молнии сжимался в тугой обреченный комочек, жмурил до боли глаза, а когда приобвык — даже интересно стало, даже храбро и весело сделалось.
И привиделась ему тут Кенигсбергская битва.
Стенами вражеской крепости стал высвеченный молниями Деньгин лес. Проголосные басовитые грома — тяжелой дальнобойной артиллерией. Молодые, суматошливые, дробные громочки — минометами, пулеметами, автоматами. Сами молнии — «катюшами». А теперь стоило только закрыть глаза — и вот он! Вот он! Савостькин дедушка.
«Вперед, сибирская рота!!» — покрывает грома, расстояния, года воскресший в грозе его голос.
Дед бежит по гремучему, жгучему полю, и с каждым шагом своим к Кенигсбергу высится, высится, вырастает. Вот уж вровень со стенами его борода, выше стен Кенигсберга его боевая пилотка.
«За мной, сибирская рота!!» — громогласно зовет он бесстрашных и верных товарищей. Бессчетно пуль пронзило дедову грудь, без числа снарядов и мин осколками дедово тело порвали — любой бы пал, но деду надо пасть смертью храбрых…
Рядом стены, а не дошагнуть до них облитому алой кровью Савостькиному деду.
«Храбрая?.. Храбрая?.. Ага!»
Дед снимает сапог и бросает его через стены: «Я не дошел — мой сапог дошел!»
Потом отрезает разведческой финкой половину своей бороды, наматывает ее на гранату и бросает гранату под стены: «Я не дошел — моя борода дошла!»
После этого пал.
И содрогнулась под ним вражья земля.
И рухнули стены Кенигсберга…
Да, да! Сапог бросал, бороду финкой обрезал… Так и рассказывает Савостька Горошек про храбрую, геройскую смерть своего неведомого, таинственного деда-солдата. Всем рассказывает. Даже Илье Стратонычу — Летописцу.
Погладит Стратоныч ему вихорок и приулыбнется чуть:
— Савостька, Савостька!.. Какой же ты, парень, выдумщик! Не было у твоего деда бороды. Двадцати семи лет на войну уходил. Медовый ус носил, сахарный зуб, бедовый глаз… С молодыми девчонками на круг плясать выходил!
Только не убедить Савостьку. Никому не убедить.
— Была борода! Была!
Стратоныч задумчиво щурится:
— Будь по-твоему. Твой дед — не мой…
— Мой. И была у него борода, — оставит за собой последнее слово Савостька.
…Скворцы кошек передразнивают, над пашнями маревца струят, на дровосечных делянках сладкий березовый сок из каждой конурки цедится, стоит перед тополем солдатский внук Савостька с двумя «яровыми» двойками в дневнике. «Залезть или не залезать»? — востроносенько принюхивает он первую смолку, источаемую побуревшими блестящими почками.
Оглядевшись, Савостька замечает подвигающихся в его сторону Захарку Бадрызлова с бензопилой на плече и Володю Целинника с топором.
Должность киномеханика Захар оставил по собственному желанию.
— Не могу! — убеждал он общественность в тайной надежде на смягчение судебной ответственности за порубленных апостолов и оскорбленные тещины верующие чувства. — Не могу! Насмотрюсь антирелигиозных фильмов, а после щи мне мощами пахнут и на тещу злостный рефлекс — Сам между тем, дабы утихомирить истицу, раздобыл где-то ей завалященького Георгия Победоносца и для лампадки — веретенного масла четушку.
Теперь Захарка работает на разных работах в совхозе. Вот и сейчас куда-то с бензопилой поспешает. Толстые улыбчивые губы, как всегда, приоткрыты. Сверкают из-под них три «благородных» зуба — золотой, стальной да серебряный. Румянеет первым загарцем провисший долу нос. Не фуражку носит Захарка, а малиновый берет. На мизинце — перстень с голубым, как гусиный глаз, камушком. Поравнявшись с Савостькой, чего-то под нос посвистывая, сворачивает Захарка к тополю. За ним — Володя…
— Дяденьки! Вы зачем с топором… с пилой? — ознобило Савостьку.
— Тебя, узкопленочного, не спросили, — лениво отстраняет его с дороги Захарка.
Задрав голову, он поодаль обходит вкруг тополя.
— Куда его внаклон ведет?
Примерившись, командует Володе Целиннику:
— Подрубай с той стороны!
— Дяденьки, не надо! — заметался от одного к другому Савостька. — Это дедушкин! Он смертью храбрых пал…
— Вот и этот сейчас хряпнется, — запосмеивался Захарка. — Подрубай! — кивает он еще раз напарнику.
Володя Целинник медлит.
— Здесь, малый, на этом месте, — поясняет он Савостьке, — клуб наметили строить. Видишь, колышками размечено… Грунт вон из тех ямок на пробу брали.
— Не надо клуб! — заслонил тополь Савостька. — Это мой… Это дедушкин! — торопливо, испуганно бормотал он.
Захарка отшвырнул Савостьку. Затрещала пила, и вот уже сотни стальных безжалостных молниек бензопилы готовы со звериным рыком вгрызться в податливую сладкую мякоть тополя. Вскочивший с земли Савостька кинул под зубья портфель. Взметнулись вспоротые лоскуты клеенки, вспорхнули странички «Родной речи», от корки до корки сжевало Савостькин дневник. И все это в миг, в птичий пописк. Во второй миг увидел оторопевший Захарка в двух шагах от себя обескровленное, в темных искрах веснушек лицо Савостьки. Только на тоненькой шее дрожала синяя жилка да под белесым зализом вихра лоснился в потном туманце лоб. Неподвижные большие глаза бесстрашно сближались с жаркой, гремучей россыпью солнечных зайчиков, искрометно сбегающих с яростных зубьев пилы.
— Обеспамятел, что ли?! — схватил его за острые локотки Володя Целинник.
— А пу… пусть не трогает! Пусть не трогает! — заизвивалось в Володиных руках судорожное тщедушное тельце.
Напуганный Захарка заглушил пилу, коршуном налетел на Савостьку, скрутил в шершавых разлапистых пальцах парнишкины уши и, до хруста сдавляя хрящики, поволок его на дорогу.
— Рахитик несчастный! Ты чего?! Душа у тебя а самоволку ушла или вполкумпола работаешь — под самую пилу лезешь?
Боли Савостька не почувствовал. Он рвался к тополю. Рвался защитить свое маленькое счастье, приговоренное рухнуть, искорчеваться, осиротить и опустошить его и без того неласковую жизнь.
— Дяденька Захар! Миленький! Не пили… Это дедушка… дедушка мой!..
— Подрубай! Я попридержу! — заторопил Захарка напарника.
Володя, вяло размахнувшись, вогнал топор в землю и глухо проговорил:
— Не буду, Захарка…
— Чего?
— Не буду… У меня тоже дед…
— Чего — дед? — все крепче досадовал Захарка.
— Тоже… там… — махнул Володя рукой в сторону Кенигсберга.
Захарка затейливо выругался и решительным шагом двинулся к пиле. Савостька обогнал его. И снова тоненьким жертвенным одуванчиком вытянулся вдоль могучего ствола дерева.
— Ну, не буду. Не буду, — заотступал Захарка. — Мы утречком. На коровьем реву… — донес ветерок до Савостьки утаенный Захаркин голос.
…Как известно, много позаписано в тетрадках Ильи Летописца веселых, грустных, геройских и саможитейских деревенских былей. Если бы спросить его сегодня, почему и отчего так яро дорывался Захарка со своею бензопилой до Савостьянова тополя, ничего, пожалуй бы, не ответил Стратоныч. Надел бы очки, разыскал нужную тетрадь, развернул ее на алфавитной букве «Б» — Бадрызловы — и предложил бы: «Читайте!»