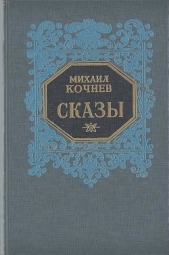Учите меня, кузнецы (сказы)
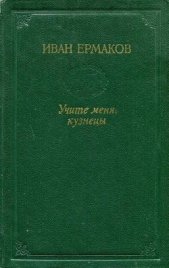
Учите меня, кузнецы (сказы) читать книгу онлайн
В однотомник избранных произведений Ивана Ермакова (1924—1974) вошло около двух десятков сказов, написанных в разные периоды творчества писателя-тюменца. Наряду с известными сказами о солдатской службе и героизме наших воинов, о тружениках сибирской деревни в книгу включен очерк-сказ «И был на селе праздник», публикующийся впервые. Названием однотомника стали слова одного из сказов, где автор говорит о своем стремлении учиться у людей труда.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А ты не грубиянничай! — укорил его дедушка. — Нельзя тебе этого… Спокаяться можно. Заяц — он тоже… На одних полях с тобой взрос. Живой глазок Родины. Вот не сей ли момент одним воздухом вы подышали? Он выдохнул, а ты воздохнул. Ты выдохнул — он причул. Из груди в грудку! Воздух — он достигает!..
«Пророк ты был, дедушка…»
Когда выводили хирурги танкиста из забытья, на самой-то тоненькой грани мерцающей яви и темной пучины беспамятства вставал этот зверик на задние лапки и начинал разговаривать с раненым Костенькой.
«Дохни! Еще дохни! Еще!» — упрашивал, требовал серенький, отзывая померкшую Костину душу из бездны предсмертия на людское, на заячье солнышко.
Дрогнут веки, осмыслится взор — подевается зайчик. Сестра с кислородной подушкой стоит:
— Дышите, дышите, больной.
…Отглатывает пришелец стеснившийся в горле комок, дивится щемящему светлому таинству слез…
«Живой… глазок… Родины…»
Тем же вечером обсказал он деду Луке Северьяновичу бесталанный и горький свой поворот судьбы и немало был подивлен, когда старый без вздоха, скорби и соболезнования вдруг заявил:
— А все-таки здорово иностранная разведка работает!
— Ты… к чему? — растерялся Костя.
— Неужто не достигаешь?
— Нет! — помедлил с ответом Костя. — При чем тут разведка?
— В том-то и дело, что бдительности в вас еще — кот наплакал, — безоговорочно заявил Лука Северьяныч. — Никакой он был не английский зять, никакой не дипломатичецкий чин и не картежник, само собой, а был промеж вас натуральных кровей шпиен.
— Ну-у-у, дед! — все больше дивился и озадачивался Константин. — Наговоришь!
— Ты мне не нукай, а слушай, — постановил дед. — Пошире твоего бороды есть. По какой вот, ответь мне, причине крокодиловый тот чемодан, с остатками фараона и картами, в канаве мог очутиться? Ну? Шурупь, шурупий…
— Утерян был.
— Под-ки-нут был! С у-мыс-лом, — четырежды проколол пальцем воздух Лука Северьянович. — С умыслом! А умысел этот в том состоял, что обязательно отнесут эти диковины к коменданту. А у коменданта в кабинете медведь. Вы, полоротые, мечтаете, — он вам меду подносит, а он… У него самопишущая машинка внутрях потрохов была засекречена. Близко вы возле бдительности не ночевали!
Все просторнее открывался у Костеньки рот: не узнать деда, и баста. Обличьем все тот же почти: по-прежнему крутоплеч, в кирпичном румянце скула, нос узорной багряной жилочкой испещрен, дымчатая борода, кулак со слесарную наковаленку. Обличье — родное — дедово, а беседа…
— Комендант говорит, а машинка фиксировает, он секретный приказ отдает, а она регистрировает… Теперь прицель… Подкинут чемодан и доставлен к нему, к коменданту. Осталось заинтересованному шпиену в майорском или картежницком образе явиться якубы за остатками фараона и картами и попутно с этим сторговать ненавистную коменданту медвежью чучелу. Им не чучела, век бы моль ее ела, им тайнописная запись цены не имеет.
Первые петухи опели дедово изголовье, вторые — ворчит, ворочается.
— Не носы дуроломом контузить — чучелу отбивать надо было!
На второй только день стало ясным для Кости, по какой такой неравнодушной причине «бдительность» дедко его оседлал. Участковый Митрий Козляев, спасибо, растолковал.
— Ну и жук же ты, дедо! — затормошил Константин старого Гуселета. — Почему ж ты от внука награду скрываешь? — бороть деда начал. — А я уже напугался. Думал, ты шизофреник какой сделался.
— Отпусти, отпусти, кобыляк! Ишь, клешни-то… Железо мять… Утаил потому — тебя опасался обидеть. Горел, ранетый, а награды сняты. Зачем мне в рану со шкарпионом…
Дедушка крякнул достойно и непоспешно полез на божницу. Иконок на ней не стояло, украшала ее замысловатая фарфоровая сахарница. Голубка сидит на гнезде. Через секунду лежало перед Костей новое орденское удостоверение, а в голубкином беленьком гнездышке сиял, излучался орден Красной Звезды.
— Вшизахреник не вшизахреник, а вот… — взвесил на ладошке Звезду дедушка. — Состоял я во время твоих боев в трудармии. Работал на нумерном секретном заводе. И упоймал я там одной темной ночью крупнейшего фашистского диверсанта. Проявил бдительность и отважность, за что был им, гадином, ранетый в грудь. Выздоровевши, работал в отделе по повышению и обострению бдительности. Тут промашку изделал. Канкретна, чуть опять же не задушил одного итенданта военного. Смотрю, моторы мелом размечает… Ну я… по подозрению… За калтык опять же… В рабочую команду по этому случаю переведен был.
— А чего же не носишь? — перенял Звездочку Костя. — Положил под голубку, думаешь, еще одна выпарится?.. На грудь, на грудь ее, деда! И грудь корольком!..
— А разведка? — притаил голос дед. — Она не дре-емит! Она рабо-о-отает! Живо опознают. Гля мстительности…
Костя фыркнуть готов:
— Да кто тебя опознает? В отстающем колхозе живешь…
— Не лопочи пусто-напусто. Я все ихни коварные приемы в отделе том изучил. Мстительность им — превыше всего! По библии работают: око за око… Кому хочешь яду подмесят. Цыганистый калей есть, — шепнул Лука Северьянович.
Разуверять и умалять дедовы подозрения, сторожкость Костя не стал. «Да простится годам твоим, — думает, — Большого подвига ты не совершил, да и вряд ли когда совершишь… Твори свою причуду».
По теперешним суматошливым боевым временам едва ли кого удивишь тем, что иная невеста, их таких — миллион, на пороге своей неминучей любви по разным служебным, учебным и комсомольским причинам отдельно от мамы живет. Завладеет такая дыханием твоим, наколдует бессонницу, научится пульсом твоим на расстоянии управлять, — вот тут-то и обсядут соловьи да жар-птицы твое изголовье. Прежде всего на стихи волокет человека. Едят в это время худо — карандаши грызут. Один такой ушибленный, нецелованный, первотрепетный до какого восторга дошел! «Губы милой — как бабкин квас» — строку возлюбленной сочинил. Другой — тоже управляемый на расстоянии — «пчелиными грезами», «пчелиными оазисами» те же самые губы воспроизвел. Какую-то, видно, тайную сладость предчувствуют, ну и, соответственно, угибают. Шейка — «лилия», щечки — «яблочки-ранетки», груди — «два белых барашка» — оснащают свою избранницу. А что за «специя» — тещенька? Какая оскома ко сладостям этим тебе уготована? — не знаем того мы, не ведаем и даже существование ее подозревать в наш изжажданный час не хотим.
И вот тут-то, на перво-последней ступенечке загса, и приобретает мужская влюбленная единица… кота в мешке приобретает.
Костя тоже себе приобрел. Да такого, что деревенские стратеги, сваха, кума плюсом ворожея, до сих пор утверждают, что не иначе как через тещу сделался он Египтянином.
Выпахивал он на поле картошку, а пятиклассники со своею учительницей собирали ее в бурты.
Имя учительницы расслышал.
Ребятишки-то беспрестанно: «Елена Васильевна! Елена Васильевна!»
«Ленушка, значит», — лицо ее рассмотрел.
И она потянулась; Солярка заблагоухала, мазут не вспуганул, даже повседневная грязь под механизаторскими ногтями ничуть не смутила.
Все искупила тихая, застенчивая Костенькина улыбка.
Дедушка первый схватился, что надо бы сватью на свадьбу затребовать.
Малопонятное получили от сватьи письмо:
«…коноплю и сурепку в последнее время колхозы повывели, зерна в стране недостаточно, и полевой жаворонок Карузо стал сбиваться и делать в распевных коленах помарки. Зато дрозд Балакирев на одних сухарях да рябине такой росчерк в финале обрел — душа пламенеет и воскрыляется».
Внизу шла приписка: «Приехать не могу. Погублю птиц».
Ленушка кратенько пояснила «птичью» эту зависимость: редкие и ценнейшие экземпляры у матери. Чуть ли не каждый певучий самец композиторским именем назван. Скворец Алабердыев, чижик Френкелев… Иностранцы есть. Косте-то всякая эта подробность — без смысла. Ослепши, оглохнувши ходит… Мозолей от счастья не чувствует. А деду, на здравый-то ум, невнятно и подозрительно сделалось: