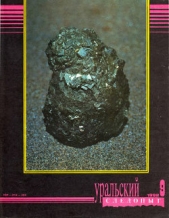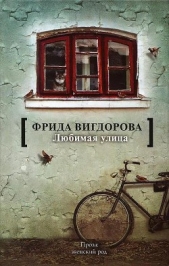Семейное счастье

Семейное счастье читать книгу онлайн
Романы "Семейное счастье" (1962) и "Любимая улица" (1964) были изданы незадолго до смерти Ф. Вигдоровой и после 1966 г. не переиздавались. В главных героях дилогии особенно полно отразилась личность автора. Это книги о семейных отношениях, о воспитании детей, о жизни, о смерти, о дружбе и о порядочности.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сглотнув, Андрей снова поднял бокал.
В передней раздался шум. Нина Викторовна суетливо выбежала из-за стола, послышались приветственные возгласы и басистый голос тети Маргариты.
— Марго, привет! Почему опаздываешь? — воскликнул Константин Артемьевич.
Стол загудел: все здоровались с тетей Марго.
— У Андрея есть тост, — сказала Саша.
— Ах, тост! Ну как же без тоста? Помню, однажды… — сказал дядя Сурен.
— Нет, погодите! Когда Леша был маленький и поправился после поноса, ему еще как раз исполнился годик…
— Мама! — Леша с грохотом отодвинул стул.
— Леша, Леша, ну что ты обижаешься? Не надо портить папино рождение! Вот Андрей хочет сказать тост! Садись, Лешенька!
Леша сел темнее тучи.
Андрей в третий раз поднял рюмку с вином.
Раздался телефонный звонок.
— Это, наверно, меня кто-нибудь поздравляет. Уверен! — сказал Константин Артемьевич, вставая.
Через минуту из передней послышался его сочный голос, он благодарил сослуживцев за внимание и просил их тотчас пожаловать к столу.
— Подождем немного, дорогие, — сказал он, возвращаясь в комнату. — Давайте раздвинемся, придет еще пять человек, может и шестого прихватят, это еще неясно.
Все опять засуетились. Не хватало стульев — их принесли от соседей. Не хватало тарелок и рюмок, но Леша сбегал к знакомым через площадку и принес кучу посуды.
Что долго рассказывать? Андрею так и не удалось произнести тост — все долго спорили, открывать ли шампанское, тем временем подоспели новые гости. Раздались новые приветствия, и, наконец, тетя Марго произнесла тост в честь своего дорогого брата.
Андрей с грустью думал о том, как ладно и без суеты праздновались в доме его детства дни рождения и Новый год. Там тоже собиралась семья, приходили гости — и беседа была веселая, но никто не перекрикивал друг друга, и никто не рассказывал о том, как у маленького Андрюши болел живот…
И еще: никто никогда в родительском доме не читал чужих писем, а тут Константин Артемьевич протянул однажды Андрею распечатанное письмо.
— Почему оно распечатано? — удивился Андрей.
— Как почему? — ответил Константин Артемьевич с не меньшим удивлением. — Мы, кажется, не чужие. Тебя не было дома, а я хотел знать, как здоровье Николая Петровича.
Андрей прикусил губу и смолчал.
Бельем ведала Нина Викторовна. И громко советовалась с Сашей за чаем:
— Надо бы прикупить мужчинам кальсон.
Андрею очень хотелось, как Леше, отодвинуть стул, оттолкнуть чашку с чаем, встать и уйти. Но он жалел Сашу. Ее нельзя было огорчать. Ладно, — думал он, — вот кончу академию, мы уедем. Будем жить одни. А как же Сашин университет? Ну, ничего. Она будет учиться заочно. Это еще интереснее: вместе читать, вместе готовиться к экзаменам. Я кончу университет вместе с ней.
А пока Сашу надо было беречь. И гулять с ней. И они гуляли вечерами по своему Серебряному переулку, спускались по бульварному кольцу к Никитским воротам, сворачивали на Спиридоновку и шли к Патриаршим прудам. Он крепко держал ее под руку, было очень скользко. Они шли вдоль замерзшего пруда и старались не смотреть на скамейки. Там сидели влюбленные. Снег, ветер, а им все нипочем.
— Говорят, на свете есть такой город, где чтят влюбленных, — сказал Андрей. — Если они целуются посреди улицы, машины их объезжают.
— Париж?
— Да, наверно.
— Давай будем чтить влюбленных, — сказала Саша,
— Давай. Посмотри, они никого не видят. Им кажется, будто их окружают высокие стены.
— И нам так казалось. — Мне и сейчас кажется.
Он крепче сжал ее руку и вдруг спросил:
— Послушай… А ты не боишься?
— Нет, не боюсь.
— Ты у меня храбрая!
— Нет, это от недостатка воображения. Понимаешь, вот, бывало, надо идти к зубному врачу. И девочки уже недели за две начинают боятся — как они сядут в это страшное кресло, как загудит эта страшная бормашина. А я ни о чем таком не думала. Вот начнется — тогда, наверно, забоюсь. а чтоб заранее представить себе и страх, и боль, и как это все будет, — надо иметь воображение. А у меня его нет. Понимаешь? Это не от храбрости, а от бездумности. А может, это хорошо? Ну скажи, зачем мне думать о страшном? Давай лучше думать, как мы будем чтить влюбленных.
— С чего мы начнем?
— Во-первых, мы никогда не будем пялить на них глаза. Целуются — и пусть целуются. Мы никогда не будем говорить: "Сумасшедшие!", или: "Молодые люди, как не стыдно!", или: "Да посторонитесь, загородили дверь!" Ты помнишь, как нам сказал милиционер в Нескучном саду?
— Ну как же: "Парк закрывается, попрошу освободить территорию!"
Они засмеялись. Им тоже ни до кого не было дела тогда. Они стояли в подъездах, сидели на скамейках бульваров, шли по улицам, взявшись за руки.
Вот и сейчас они идут и думают об одном и том же, и Саша ничуть не удивляется, когда слышит голос Андрея: он говорит слово в слово то, что она хотела сказать:
— А через два года мы пойдем по этому бульвару, а впереди побежит малыш…
— Это будет мальчик?
— Непременно. И когда ему исполнится шесть лет, мы начнем собирать марки. Будешь вместе с нами собирать марки? Почему ты молчишь?
— Я хочу спросить тебя… Не сердись… Видишь ли, очень редко, но бывает… Если… если вправду со мной что-нибудь случится…
— Замолчи!
Она остановилась, подняла к нему лицо.
— Нет, послушай. Я хочу, чтоб ты знал, что мне было хорошо с тобой. Очень. И еще…
— Замолчи!
— Андрюша…
— Замолчи!
Он положил ей руки на плечи. Саша совсем близко увидела его потемневшие глаза.
— Я не хочу слушать. Я не могу жить без тебя. Я не знаю, как я жил до сих пор. Целых двадцать три года! Я не могу. Понимаешь?
Здесь работают круглосуточно. И ночью в раздевалке сидит швейцар. Ночью усталый врач выходит покурить. Молодой, а ему уже успели надоесть отцы, мамы, бабушки и пуще всего — крики и стоны будущих матерей. Всегда одно и то же. Каждая — и ученая, и артистка, и молоденькая продавщица из магазина готового платья — кричит одно:
— Мама! И еще:
— Доктор! Подойдите ко мне! Доктор!
Как будто он сам не видит, к кому подойти, а к кому подходить рано.
На третий месяц работы в родильном доме он усвоил привычку ходить среди стонов и криков, слез и жалоб со скучающим выражением лица. Это у него очень хорошо получалось. Рассеянными глазами он глядел куда-то поверх тех крыш, что видны из окон. Наверно, когда-нибудь жизнь проучит его. Ведь и врач родильного дома должен когда-нибудь стать отцом.
Под окнами больницы он, конечно, стоять не будет. Не будет маяться ночью в вестибюле. Нет, конечно. Но и ему будет тревожно и страшно, будет непременно — жизнь проучит скучающего врача. Но, наверно, не научит ничему. К чужой боли нельзя привыкать, а уж если привык или, того хуже, — заскучал, пиши пропало: нет человека.
— Папаша, — говорит он Андрею, — идите-ка домой и ложитесь спать. Здесь вы все равно ничем не поможете. А ночью надо спать. И видеть сны… среди весны…
И врач изображает зевок. Зевок у него хорошо выходит.
Быстро научился!
Кулаки Андрея сжимаются в карманах шинели. Если бы этот человек не был врачом и от него не зависели бы жизнь и здоровье Саши, этот врач запомнил бы молодого папашу. Пожалуй, он бы и скучать перестал. И пусть бы даже отчислили из академии — наплевать.
Врач ушел. Андрей смотрит сквозь стекла больничной двери. Пол в приемной выложен белым кафелем — так бывает в ванной… На вешалках — пальто врачей и докторские халаты. Вместо швейцара сидит девушка в белом халате и белой шапочке. Она дремлет. Перед ней раскрытая книга. Голова опускается. Девушка вздрагивает, оглядывается, Андрей видит сквозь стекло ее испуганные глаза. Он потихоньку стучит в стекло. Девушка подбегает к дверям.
— А где роженица? — спрашивает она, распахивая дверь.