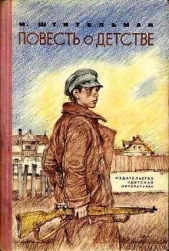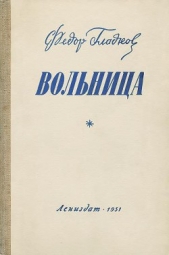Повесть о детстве

Повесть о детстве читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
- Фомич! Ларя! Матушку-то. За что?.. Спасите матушку-то! Доконают ее... Ларя! Фомич!..
И скрылась за дверью.
Я выбежал вслед за нею.
Жигулевка была на нашей стороне, на луке, рядом с пожарным сараем. Это была старенькая деревянная лачужка, похожая на баню, сизая, вся покрытая сухой плесенью, с маленьким оконцем, в которое могла влезть только кошка. Дверь всегда была заперта огромным ржавым замком.
Мы сбежали с крутой горы напрямик к церкви и по жиденьким мосткам выскочили к пожарной. Мать бежала не оглядываясь и рыдала на бегу. Я на минуту остановился и посмотрел на ту сторону, не идут ли за нами отец с Ларивоном. Внизу бежал, взмахивая бородой, в красной рубахе без пояса Ларивон. Бежал он тяжело, и его отшибало то в одну, то в другую сторону. На переходе через речку он рванул на себя слегу на поручне и вместе с нею грохнулся в воду. Забарахтался в мутной воде, потом неуклюже поднялся и со слегой в руках вышел из речки на берег, весь грязный, с прилипшей к телу рубашкой. Около пожарной, у насосов, стояли мужики. Отца ни на горе, ни внизу не было: должно быть, он посчитал зазорным бежать вместе с Ларивоном и пошел вдоль порядка по дороге, чтобы форснуть перед открытыми окнами своей пунцовой рубашкой при жилете, плисовыми портками, легкими сапогамп и касторовым картузом, который он обязательно снимал перед встречными.
У запертой двери жигуленки стоял Потап вместе со стариком Мосеем пожарником. Мосей был уже навеселе и счастливо улыбался всеми морщинками обветренного лица. На голове у него красовалась войлочная шляпа, очень похожая на глиняную плошку. Такие шляпы носили только глубокие старики, а Мосей, юркий, говорливый, высохший, с кривыми ногами, явно щеголял своей шляпой: он бесперечь толкал ее кривыми пальцами со лба на затылок, с затылка набекрень и опять на лоб. Одет он был в синие набойные портки и домотканую рубаху цвета луковой кожуры.
Мать подбежала к черной дырке оконца, судорожно вцепилась в него пальцами и зарыдала:
- Матушка! Да чего это они с тобой сделали? Да как это у них руки-то поднялась? И больную старуху-то не пощадили. Да как это у них, ради светлого праздника, совести хватило? Что делать-то будем? Матушка!
Из жигуленки в оконце чуть-чуть просачивались глухие стоны: бабушка плакала.
Подошел Потап, по-прежнему лохматый, свирепый, прокопченный, только без фартука, и робко постукал пальцем по плечу матери.
- Не убивайся, Настенька. Мы тетку Наталью принесли, как барыню, на кошме. Архип сейчас на барский двор попрыгал. Дмит Митрич живо на своем жеребце прилетит.
Страсть любит начальство наше распекать! Не убивайся - вызволит.
Мать не слушала его и плакала, не отнимая лица от окошечка.
Мосей скоморошничал:
- Место везде человеку есть: ддже в мот иле лежанка уготосана. Лежи себе в домовике, как на перине. А в нашей жигулевке кто не бывал? К Наталыошке в келью люди-то и не заглядывали: людям-то самим до се5я. А сейчас - гляди: к дочка, и внучек, да я с Потапом и Архип на придачу.
Ключ-го вон он у меня. - Он подкинул на ладони скромный ключ с винтовой нарезкой. - Храни, бат, пуще свсеи головы. И меня сколь раз тут запирали, и я запирал. Однова меня сюда за ноги притащили. А заперли за мое же веселье:
захотелось людей потешить - в колокола позвонить. Так захотелось места не найду. Люди на жнитве были. Залез на колокольню и давай в набат жарить. С полей-то люди - и верхом и бегом, - пожар, думали. А когда сбегаться стали, я трезвоном их начал величать... Трезвоню, а сердце у меня голубем льется - до того мне радошко. Я-то наверху, как на крыльях, а люди-то внизу, как овцы. Ну, конечно, стащили меня с колокольни и своим судом заперли меня этим ключом и ушли. Сутки лежал я и все смеялся: до чего народ потеху любит! А мне лестно. Усладил народ-то и пострадал за него. А после брагой меня угощали. Первым человеком на селе оказался. Слава-то даром не дается.
И он хихикал, вспоминая об этом событии как о радостных днях своей жизни.
Ларивон, весь мокрый, в тине, страшный, со слегой в руке, подбежал к жигулевке и хрипло заорал:
- Мамынька! Голубушка моя хворая! Ослобоню тебя - дверь вышибу. На руках домой отнесу... Какой тебя лиходей обидел, мамынька?
Он ударил слегою в дверь, и этот удар глухо загрохотал внутри жигулевки. Потап вырвал слегу из рук Ларивона и бросил ее в сторону.
- Брось, Ларивон Михайлыч, не озоруй! - спокойно, но твердо сказал он. - И себе беды наживешь, и тетке Наталье навредишь. Уймись!
- Уйди, Потап, меня не трог: ушибу. Ты думаешь, я пьяный? Я не пьяный.
- Ну, маленько выпимши - не без того. Однако озоровать кегоже: греха не оберешься.
Мосей осудительно качал головой.
- Тебе только волю дай, Ларивон Михайлыч, - ты и жигулевку и мою пожарную под яр сковырнешь.
Ларивон по-своему любил бабушку Наталью, и нелепый арест больной, полумертвой старухи он воспринял как тяжелую обнду самому себе. И его необузданность нравилась мне, и он сам, сильный, как Полкан, казался мне героем.
Он со всего размаху грохнулся в сизую от старости дверь, по она только тяжело загромыхала на железных петлях и зазвенела массивным пробоем и замком, похожим на гирю. Ею отбросило назад, но он вцепился огромными руками в замок и стал крутить и рвать его из стороны в сторону. Потап опять подошел к нему, обхватил его сзади, пытаясь оттащить от двери, но Ларивон орал:
- Не замай, Потап! Как я могу терпеть, ежели на душу наступили... Я мамыньку не дам обижать. Всю жигулевку по бревну раскидаю, а мамыньку ослобожу.
- Ларивон Михайлыч, - мягко и осторожно уговаривал его Потап, - погоди, не бунтуй! Сейчас Дмит Митрич прискачет и сам распорядится. Архип за ним побежал. Он живо на своей деревяшке допрыгает.
Но Ларивон не слушал его: он рвался из рук Потапа и выкручивал замок.
Я подбегал к окошечку, у которого плакала мать и чтото лихорадочно говорила в черную квадратную дыру, и кричал бабушке:
- Ты потерпи маленько... Сейчас дядя Ларивон двери выломает. Барина ждут. Опять тебя домой отнесем.
Я не замечал, как сердилась и отталкивала меня мать, и не слышал, что лепетала больным, детским голоском бабушка из этой черной пустоты, и убегал опять к Ларивоиу, а он все еще рвал замок и отбивался от Потапа.
Подходили мужики и парни от церкви и толпились поодаль. Потап с угрозой крикнул:
- Расходись, мужики! Староста с сотским идет. В жигулевку запрут.
Из-за амбаров вышли на луку Пантелей и Гришка Шустов. Пантелей, в новой суконной бекешке нараспашку, в смазных сапогах и в картузе, надвинутом на глаза, переваливался на своих кривых ногах, а Гришка, придерживая свою саблю на поддевке, шел браво, с солдатским шиком
Веселым трезвоном в подпляс заливались колокола.
Пантелей, приземистый, упитанный, с жирным, красным лицом, с бородой лопатой, с маленькими глазками плута, подэшел к жигулевке властно, по-хозяйски и, не обращая внимания на людей, осмотрел замок, оттолкнул подошвой сапога грязную слегу и тонким, скрипучим голоском распорядился:
- Вам здесь нечего делать, мужики. Эка невидаль! Ежели посидеть в жигулевке не терпится - жди своей череды.
Наталью заперли за непочтение к крестному ходу. Хворость хворостью, а церковь почитать надо - через силу встань и поклонись. Батюшка с дьяконом разгневались несусветно.
А вот Ларивона за его бесчинство на два дня в жигулевю, посажу. Идите, мужики, идите от греха, не выводите меня из терпения. Шустов! Сотский! Разогнать всех!
Сотский с грозным лицом, хватаясь за саблю, решительно зашагал к толпе.
- Разойдись, елёха-воха!
Толпа стала неохотно расходиться.
Мать поклонилась Пантелею.
- Пантелей Осипыч! Пожалей матушку-то! Ведь ты сам знаешь: на ногах она не стоит. Как это можно при смерти человека обижать? До кого ни доведись... Пантелей Осипыч, выпусти ее!..
- Ничего, ничего, милка! Пущай помается да покается.
Господь зачтет... за спасенье души.