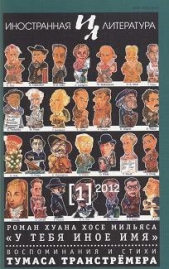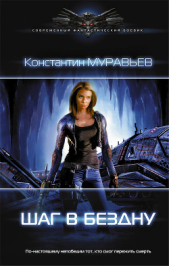Тайна на дне колодца

Тайна на дне колодца читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Еще смех окончательно не утих в зале, как Мимолетное Виденье опять явилась передо мной и с ласковой укоризной сказала:
— Ну миленький! Ну так нельзя! На сцене никто не должен смеяться.
Схватив мою руку, она потащила меня из-за кулис. Я бежал за ней, спотыкаясь о какие-то косяки, прибитые к полу сцены. Мигом мы очутились в фойе. Там она прихватила стул и, войдя в зрительный зал, поставила его посреди прохода между рядами, прямо против сцены. Усадив меня на этот стул, она сказала:
— Сиди вот и смейся сколько угодно. Тут можно.
Нагнувшись, она крепко поцеловала меня в щеку и быстро ушла, оставив вокруг запах духов, которые очень хорошо пахли.
Нужно сказать, что в детстве я обладал каким-то необъяснимым магическим свойством, в силу которого ни одна хорошенькая женщина не могла передо мной устоять и обязательно бросалась меня целовать, как только я попадался ей на глаза. Особенно любили целоваться артистки. Они и между собой целовались каждый раз при встрече. Когда я был совсем маленький, то отбивался от них кулаками, но теперь я уже не мог позволить себе такое неджентльменское обращение с женщинами, а только старался держаться от них подальше.
Смотреть спектакль из зрительного зала, да еще сидя на стуле, было гораздо лучше, тем более что я был совсем близко от сцены. И мне все хорошо было видно. Действие между тем перенеслось в дом невесты, Агафьи Тихоновны, куда стали сходиться женихи — один смешнее другого, а самый смешной, по фамилии Яичница, был такой толстый, что застрял в дверях. Стены комнаты ходили ходуном (это же декорация была), а он никак не мог пролезть сквозь дверь. Наконец девка Дуняшка пихнула его сзади ногой с такой силой, что он, как пробка, вылетел на середину сцены. Действие чем дальше, тем становилось смешней. Я смеялся так, что упал со стула. Многие бойцы поднимались со своих мест, чтоб взглянуть, кто это смеется так, а когда пьеса кончилась, все бросились ко мне, схватили меня на руки. Кто-то крикнул:
— Качать парнишку!
Я полетел кверху, подброшенный десятком рук. Внутри у меня похолодело, как бывает, когда высоко взлетаешь, качаясь на качелях. В это время человек в черной кожаной куртке крикнул:
— Отставить качать парнишку! Отпустите его! Вы что, живого ребенка не видели?
— Да где же его увидишь, товарищ командир? — заговорил тот, который держал меня на руках. — У меня дома Васятка совсем несмышленыш был, когда меня на царскую службу взяли. Потом три года империалистической, потом год на гражданской. Васятка теперь небось аккурат такой, как этот мальчонка будет.
— Братишки! — закричал вдруг стоявший рядом боец. — Братишки, покончим с белой гидрой! Добьемся счастливой жизни! Помрем, так пусть хоть наши детишки счастье увидят.
— Ша! — закричал командир. — Тише! Никому помирать не надо. Отпустите сейчас же мальчонку! Напугали ведь!
Бойцы тянулись ко мне со всех сторон и целовали кто в щеку, кто в лоб, кто просто в плечо. Передавая меня из рук в руки, они наконец поставили меня на сцену. Тут Мимолетное Виденье схватила меня за руку и увела.
— Ты, видно, любишь смотреть спектакли? — спросила она, когда мы очутились в помещении за сценой.
Я сказал, что люблю.
— Так ты приходи к нам в театр. У нас по воскресеньям бывают утренники. Знаешь, где театр Соловцева?
Я сказал, что знаю.
— Вот и приходи перед спектаклем, когда захочешь. Скажешь, что ты ко мне, и тебя пропустят.
Она назвала свое имя и отчество и спросила, заглядывая в глаза:
— Не забудешь?
— Нет, — уверенно отвечал я.
Напрасно я был так уверен. В театр к ним я так и не собрался, уже не помню почему, а имя и отчество ее скоро забыл, и осталась она в моей памяти просто как Чудное Мгновенье.
Всему на свете бывает конец. Поэтому пришел конец и Борщаговской улице с ее кособокими, щербатыми тротуарами, бездонным колодцем, страшной собакой и Степкой-растрепкой, Бешеным Огурцом. То есть Борщаговская улица со всеми ее атрибутами осталась на месте, но мы-то оттуда уехали. Сбылась наконец моя мечта поселиться в большом пятиэтажном каменном доме с балконами, с затейливыми лепными украшениями на стенах, красивыми каменными статуями у подъезда или над подъездом.
Дом этот был на углу Большой Караваевской и красивейшей Марино-Благовещенской улиц, по левую сторону, если идти от Галицкой площади. Здесь было все, чего мне хотелось: и лепные украшения, и статуи, и даже кариатиды, то есть красивые каменные женщины, которые, закинув за голову руки, поддерживали снизу балконы. Таких женщин было по две штуки под каждым балконом. Обе улицы утопали в зелени деревьев, по обеим ходил трамвай, что, по тогдашним моим понятиям, было достоинством, а не недостатком.
Перед домом как со стороны Караваевской, так и со стороны Марино-Благовещенской были палисадники с большими остролистыми кленами. Я любил, забравшись на клен и примостившись на развилке ветвей, читать какую-нибудь увлекательную книгу. Так, правда, было не очень удобно, но зато интереснее: легче было вообразить себя в лесных чащобах, непроходимых дебрях или тропических джунглях, о которых шла речь в книге.
Квартира наша помещалась на самом верху, то есть на пятом этаже. До нас в этой квартире жил какой-то белогвардейский генерал, бежавший после революции со всей своей семьей за границу. Всего в этой генеральской квартире было семь большущих комнат. Из них три комнаты достались на нашу долю. В трех других комнатах, в которые был отдельный вход, поселилась другая семья. И еще в одной комнате, где раньше был кабинет генерала, поселилась еще одна маленькая семейка — всего из двух человек, то есть бездетные муж и жена.
Две наши комнаты выходили окнами на Караваевскую улицу (в каждой комнате по два окна), но поскольку дом стоял на углу, то видна была и Марино-Благовещенская улица. Третья, самая большая комната, с тремя окнами, выходила в сторону двора. Из окон этой комнаты была видна вся Караваевская улица вплоть до поворота, где начинался Ботанический сад, в котором мы пропадали летом по целым дням, за исключением тех случаев, когда уходили купаться в Кадетском пруду.
Из квартиры было два выхода. Одна лестница, с каменными ступенями, вела к парадному входу на Марино-Благовещенской улице. Другая же, так называемая черная лестница, с чугунными ступенями, вела в вымощенный булыжником двор, железные решетчатые ворота которого выходили на Караваевскую улицу. Во дворе был двухэтажный дровяной сарай с террасой, на которую выходили двери сараев второго этажа. Сарай этот назывался у нас, дворовых мальчишек, “пароходом”, потому что терраса с балюстрадой при небольшом усилии воображения превращалась в палубу корабля, по которой можно было бегать, выкрикивая разные команды вроде “полный вперед”, “право руля”, “свистать всех наверх” и другие морские термины. Отсюда же, то есть с “палубы”, можно было проникнуть сквозь потайной лаз на чердак сарая, где находился штаб организованной мною шайки “разбойников” под названием “Гремучая змея”, осуществлявшей набеги на отряды бойскаутов, проводивших свои игры в Ботаническом саду. Устроив засаду, мы неожиданно обстреливали их каштанами, а когда они, испугавшись, бросались бежать от нас, словно стадо баранов, мы незаметно убирались куда-нибудь подальше, понимая, что, обнаружив в конце концов малочисленность нашего отряда, они легко могли одолеть нас.
Мой старший брат не принимал участия в этих вылазках, так как сам в то время был членом скаутской организации. Меня же в скауты не приняли по причине моего малолетства. Я, таким образом, считал себя как бы объявленным вне закона и находил удовлетворение в том, что вел партизанскую войну против этой организации пай-мальчиков, с которой поклялся не иметь ничего общего и бороться всеми имевшимися в моем распоряжении средствами.
Самой любимой моей комнатой в нашей новой квартире был зал (так мы называли комнату с тремя окнами). Потолок в ней был не белого, как это обычно делается, а темно-красного цвета, щедро украшенный по краям разноцветной лепкой. Этим потолком я лично способен был любоваться словно произведением искусства. Но главным украшением этой комнаты являлся камин, который, кстати сказать, мы никогда не топили, так как, чтобы нагреть помещение с его помощью, потребовался бы чуть ли не целый воз дров. Топили обычно кафельную голландскую печь, установленную в небольшом треугольном коридорчике, в который выходили двери всех трех наших комнат. Печь была расположена так, что обогревала все три комнаты сразу. Камин, в сущности, нужен был не для тепла, а скорее для красоты, для престижа, для уюта.