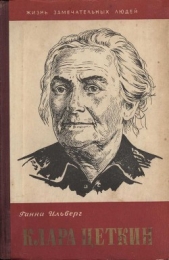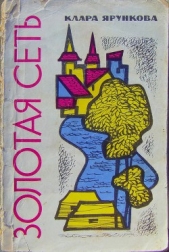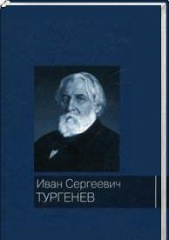Единственная

Единственная читать книгу онлайн
«Единственная» — одна из лучших повестей словацкой писательницы К. Ярунковой. Писательница раскрывает сложный внутренний мир девочки-подростка Ольги, которая остро чувствует все радостные и темные стороны жизни. Переход от беззаботного детства связан с острыми переживаниями. Самое светлое для Ольги — это добрые чувства человека. Она страдает, что маленькие дети соседки растут без ласки и внимания. Ольга вопреки запрету родителей навещает их, рассказывает им сказки, ведет гулять в зимний парк. Она выступает в роли доброго волшебника, стремясь восстановить справедливость в мире детства. Она, подобно герою Сэлинджера, видит самое светлое, самое чистое в маленьком ребенке, ради счастья которого готова пожертвовать своим собственным благополучием.
Рисунки и текст стихов придуманы героиней повести Олей Поломцевой, которой в этой книге пришел на помощь художник КОНСТАНТИН ЗАГОРСКИЙ.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я и не знал, Олина, что у тебя такие рыцари!
Я думала, что съезжу ему по физиономии. От такого нахальства даже Пуцо Шинка потерял дар речи.
— Брось хамить! — крикнула я. — Не желаю я слушать от тебя твои гнусные двусмысленности!
Микуш воззрился на меня, как идиот. Даже рот открыл. Дело в том, что он довольно глупый, хотя и ходит в ИЗО. Как услышит хоть одно незнакомое слово, так и с катушек долой. Вот сейчас: он совсем не понял, что я сказала. Шестнадцать лет, а не знает, что такое двусмысленность! Ха-ха!
Шайка меня подождала, и дальше мы уже без помех дошли до школы.
Первый урок была литература, и мы разбирали стихотворение. О том, как жизнь, словно на беговой дорожке, перепрыгивает барьеры. Мне стихотворение понравилось, и я иллюстрировала его. Нарисовала, как человечек берет барьер, словно при замедленной съемке. А потом пририсовала Рудольфу, прекрасную Черную Газель с Олимпийских игр. Когда я была помладше, то боялась, что вырасту слишком длинной, а теперь мне хотелось бы быть как Рудольф. Но этому, наверное, не бывать: не хватает целых двадцати сантиметров.
Вообще-то стихотворение было не о спорте, а о современной жизни. Это и было главное, а от спорта там остался только бег с препятствиями. Когда Яворова читала дальше — о том, что мы щекочем жизнь под мышками, — все расхохотались. Я тоже, потому что себе это представила, и было, факт, немножко смешно, хотя я и понимала, что поэт подразумевает под этим совсем другое. «Пушкин» (его настоящая фамилия — Пушвин) ужасно рассердился и вызвал меня, чтобы я сказала, как я это понимаю. Я сказала, и «Пушкин» остался доволен. Но пока я стояла, отвечая, то видела, что мальчишки щекочут друг друга. А потом Вавро линейкой пощекотал мне под партой ногу, я не выдержала, и меня чуть не разорвало от смеху.
«Пушкин» меня простил, потому что он ко мне хорошо относится, а на других он разозлился и влепил ребятам шесть колов. Остановился он только на Еве. Она умеет классно притворяться: прочитала стихотворение так трогательно, что мы чуть не расплакались. Потом она села на место с таким видом, будто всех осуждает. Вот пройдоха! «Пушкин» чуть не съел ее из любви.
Химия у нас ушла на раздачу вопросников, кто куда хочет пойти после девятого класса. Целый час мы с нашей Вербой (ее настоящее имя Елена Врбова) проболтали о планах на жизнь. Иван хочет быть авиамехаником, а Еву интересует медицина. Я буду художницей, все равно ничего другого не придумаю. Но наши не хотят пустить меня в ИЗО, там плохо поставлено общее образование, так как бы я не осталась дура дурой. Мама знает одного художника, который окончил школу изобразительного, и тот будто бы способен в одном слове сделать три грубые ошибки. Например, спокойно пишет «венигред» (то есть «винегрет», ха-ха!). Мне-то вообще не очень нужно общее образование, пишу-то я уже правильно, а больше всего мне нравится рисовать. Но мама объяснила, что образование — далеко не одна орфография, что знания расширяют духовный горизонт, и талант — это еще не все, потому что только умный и образованный человек, если у него есть талант, может стать настоящим художником, и т. д. Отлично! В таком случае окончу двенадцать классов, а потом все равно пойду в художественное. Только не хочется учиться без конца.
Само собой, я еще посоветуюсь с учителем в художественной школе. Может быть, мама имеет в виду ту же самую умственную зрелость, которая нужна, чтобы не приземляться на мягкое место? Ладно, спрошу его.
Ева тоже пойдет в двенадцатилетку. И вообще, туда собирается целая куча наших. Даже Бабинская. Верба отговаривала ее: мол, для нее это не имеет смысла, в эту школу большой отбор, а у нее в прошлом году было шесть двоек. Бабинская промолчала. Она такая чудачка. И дура набитая. Я уже внушала ей, пусть хоть прочитывает заданное, ведь сил нет никаких ей подсказывать. Сидит она впереди меня, и я чуть не разрываюсь, а она ничегошеньки не разбирает. Ясно, когда у нее и представления нет о том, что задано. А если и уловит что-нибудь, так тоже черт те что получается. Например: «Мумии бальзамируют для того, чтобы они дольше жили», или «Наполеон в России разбил себе голову». Так, конечно, трудно. Теперь у нее по математике маячит кол, и, право, не знаю, как это она попадет в двенадцатилетку. Может, еще передумает? Большинство тех, кто туда собирается, учатся отлично. У меня, например, одни пятерки. То есть так было. Теперь меня Антония, наверное, засыплет.
После химии не было больше ничего особенного. Мы все обсуждали вечеринку и с кем танцевать, раз наши мальчишки не умеют.
Дома я показала отцу тройку по географии. Я давно ее получила, да все не решалась похвалиться, но теперь перестала за нее переживать. Пусть знает, что в жизни бывает и плохо, и печально! Но каково же было мое разочарование! Отца это вовсе не тронуло, он подписал мой дневник, а когда бабушка стала охать, что из меня будет, сказал:
— Ничего, Олик. Я тоже, бывало, хватал даже колы. А что такое тройка? Вполне приличная отметка, правда?
Вот это да! Вот это новость!
Потом он остался с нами в кухне и хотел посадить меня на колени. Но я не села. Отец расстроился.
— Вот, растишь ребенка, а оглянешься — в доме чуть ли не враг вырос. Ты очень упряма, Оленька.
Господи, хнычет, как бабка! Но у него это что-то новое. И опять он закурил, да еще в кухне! Я испугалась, что последует мелодрама похлеще, или допрос, и нарочно сказала дерзость, которую только что (причем неплохо) придумала:
— Упрямство наследственно. Я его, наверное, от кого-нибудь унаследовала, и, значит, не виновата.
Конечно, это было смешно. Но в ужас пришла только бабушка. Отец рассмеялся, и я не выдержала. Он воспользовался этим, схватил меня и шепнул на ухо:
— Мама говорит, ты хочешь лодочки, что ли? Завтра пойдем и купим. Хорошо?
«Ага! Лодочки — это за Сонечку, — подумала я. — На это меня не поймаешь!» Но я ничего не сказала, потому что вечеринку назначили в следующую субботу, и я не знала, удастся ли мне уломать маму. Я еще покочевряжилась — пусть видят, что мне это не так уж важно. Я ждала, когда же он заведет речь о Сонечке, но он не заводил, и я сказала как ни в чем не бывало:
— Почему же завтра? Пошли сегодня!
Отец посмотрел на часы и спросил, сделала ли я уроки. Я их не сделала и потому ответила, что ничего не задано. Ничего, вечером успею.
— Тогда одевайся, — сказал папка, — да потеплее! До шести успеем. А после у меня дела.
Я молниеносно снарядилась, и мы пошли.
— Только светлые не покупайте, — проводила нас бабушка. — Не стану я их без конца чистить! Лучше бы подождали мать…
И верно, в прошлом году мы с папкой купили белые фетровые сапожки за сто тридцать крон, а носила я их один день, потом снег растаял, и началась черная слякоть. В этом году они мне уже стали малы.
Туфельки нам попались просто сказка: светло-серые и уже не остроносые, а с усеченным носком. Я сначала хотела купить на полномера меньше (это чтоб ноги не росли), но папка заметил, что пальцы у меня скрючены, и спросил размер побольше.
Ну ничего. Если мне в них не ходить, а танцевать, может, этого полномера как раз и недоставало бы.
До шести оставалась масса времени. Мы пошли на книжную выставку. В одном углу лежали албанские книги. Папка удивился, как они бедно изданы. Ни одной не было в переплете, все «рассыпные».
— А может быть, — сказала я, — снаружи они некрасивые, а внутри как раз чудные.
Это я говорила о книге, на обложке которой была нарисована прекрасная печальная девушка в чадре. Видны были одни глаза, но они-то и были такие грустные. А черные косы спускались до коленей.
— Да, — кивнул отец, — пожалуй, это все народные сказки, а они всюду хороши.
Что ж, и Гашек хорош, и Хемингуэй, но и сказки я очень люблю читать.
Когда мы смотрели шведские книги, я подметила, что на меня глазеют два парня. Один веснушчатый, как вентилятор, и страшно смешной, а другой очень даже ничего. Я делала вид, что не замечаю, как они все время плетутся за нами. Только дрожала, как бы отец их не углядел. Но куда там! Он таскал меня от одного стенда к другому, разговаривал так громко, что я его одернула, потому что мальчишки начали ухмыляться. Идиоты!