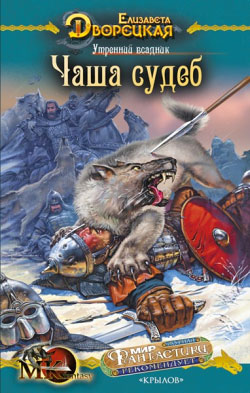Утренний иней

Утренний иней читать книгу онлайн
Не может и быть не должно «бесконечно далеким» для нынешних подростков прошлое их родителей, ибо живет оно не только в их памяти, — оно властно вторгается в их судьбы, напоминая о себе не только невозвратимыми утратами, но и — порою — не отомщенными обидами. И как бы ни менялась к лучшему наша жизнь, как бы тщательно ни зарубцовывало время старые раны, нанесенные давно отгремевшей войной, — не в его власти заглушить боль от этих ран, никаким ветрам не дано развеять эту боль из души народной, пока жив сам народ, хранящий в себе память изболевшегося сердца. Этой вот мыслью и сцементированы воедино главы «Утреннего инея», одни из которых о детстве нынешнем, а другие доносят до нас живые голоса из «убитого детства», из детства тех, кто уже давным-давно твердо вошел в мир взрослых.
Роман «Утренний иней» завершает авторскую серию для подростков «Здравствуй, жизнь!».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Валентин бросился на него, ухватил за воротник полушубка, закричал — без слов, только чтобы услышали где-нибудь, кто-нибудь! Лишь бы только услышали и прибежали на помощь.
— А-а-а-а!
Метель заглушила его голос, смяла. И крепким, красным, волосатым рукам нетрудно было разомкнуть его больные непослушные пальцы на черном воротнике. Уже через несколько секунд парень навалился на него и, заглушая все еще рвущийся, зовущий на помощь крик, обхватил руками его шею…
Теплый, толстый Фалин шарф не позволил ему сомкнуть пальцы на горле Валентина. Шарф, как щит, прикрывал его, и парень в бессильной ярости, пытаясь добраться до его горла, царапал подбородок и лицо Валентина тупыми твердыми ногтями. И у Валентина где-то в самой глубине сознания жило: лишь бы не добрался до горла, лишь бы не добрался… И Фалин шарф не пустил красные волосатые пальцы к его горлу! Валентин отчаянным усилием отпихнул парня, вырвался, выполз из-под его тяжелого тела. Сапоги рыжего продолжали скользить по утоптанному снегу, не давали ему найти опору, не позволяли встать. Но он успел вцепиться в ногу Валентина, когда тот поднялся, и они снова, сцепившись клубком, покатились по снегу, пока с силой не ударились о деревянную стойку прилавка.
Наверно, ушиблись они одинаково сильно — Валентин на несколько секунд оглох и тут же почувствовал, что тело парня как-то обмякло.
И тогда он снова закричал, вспомнив на этот раз, что есть слова, которыми зовут на помощь:
— Сюда! Сюда! Сигнальщик! Сюда!
Ему казалось, что его зов заглушил шорох начавшейся метели, убил стоящую на огромной и безлюдной рыночной площади тишину, перекрыл все звуки в огромном городе, все другие голоса, другие крики.
— Сюда! Сюда! Сигнальщик!
Удара по голове он не почувствовал, не понял даже, что его ударили, не видел, как и когда рыжему удалось дотянуться до упавшей с прилавка гири. У него только потемнело в глазах, и снег у прилавка стал вновь багрово-черным.
Последнее, что он увидел, прежде чем потерять сознание, были неведомо как попавшие сюда, на этот холодный снег у прилавка, сказочные цветы. Они, яркие на черном, свешивались с прилавка в снег, и морозный метельный ветер трепал и рвал их живые лепестки.
Когда он очнулся, метель уже в полную силу играла на пустой рыночной площади. Не поднимаясь, скрипя зубами, со стоном, он размотал шарф, снял шапку и прижался головой и лицом к мягкому нежному снегу, чуть облегчившему боль. Голова гудела и болела, на темени вспух большой болезненный бугор, но крови не было — теплая дедова шапка смягчила удар.
Он поднялся, стиснув зубы, чтобы не стонать больше, и огляделся. Вокруг не было ни души… Пошатываясь, он обошел почти весь рынок. Везде было пусто и тихо. Только метель хозяйничала, заметая голые прилавки белым пухом. На западной стороне еще оставались не закрытыми последние, угловые ворота.
Валентин снова застонал, уже от другой боли — он выдал, выдал себя, этот рыжий, а Валентин позволил ему уйти, скрыться, спрятаться в свою нору!
Как и где теперь искать его? Как найти и доказать, что он предатель, сигнальщик, если Валентин даже не запомнил его лица? Если лицо этого рыжего намертво заслонилось в его памяти другим лицом — тем, в кайме летного шлема, которое он увидел, но не успел тогда запомнить? Теперь же лицо немецкого летчика не давало удержаться в памяти другому лицу…
Он заскрипел зубами, поняв, что не может вспомнить лица рыжего парня.
Потом он резко остановился, не замечая, что все еще держит шапку в руках, что голова его обнажена и ветер швыряется снегом, и снег путается в волосах, смерзаясь в льдинки и причиняя лишнюю боль. Цветы! Последнее, что он увидел, были цветы на черном — Фалин ковер! Значит, это ему она продала свой ковер! Значит, есть еще надежда — может быть, Фаля запомнила его лицо! И только тут он горько спохватился, что бросил Фалю одну и она так и ушла, не дождавшись его.
Домой он добирался долго — плохо знал дорогу в этом чужом для него городе. Здесь лучше всего он знал лишь один путь — через площадь первомайских демонстраций к зеленому скверу, в глубине которого стоял оперный театр. Через ту самую площадь, где его повесят, если немцы войдут в город…
А когда он наконец-то добрался домой и вошел во двор, в распахнутую калитку, ему не нужно было обращаться к своей обожженной душе, чтобы понять, что произошло. Двери дома были распахнуты настежь, двери Фалиной квартиры — тоже.
На пороге стояла Томка и плакала.
Где Фаля? — спросила она, подняв на него злые, заплаканные глаза. — Куда ты ее увел? У нее мать умерла.
Тогда он молча повернулся и пошел на берег реки — за Фалей.
Он знал, что у нее самое большое горе в жизни. И мог ли он утешить ее словами о том, что мать ее умерла не самой страшной смертью? Он имел на это право — утешить ее именно так. Но он не делал этого, потому что знал — утешения быть не может. Мать Фали, как и его мать, убила война. Убила по-другому, убила исподтишка, тихо, но все равно убила именно она — страшная багрово-черная война в летном шлеме того немецкого летчика. И утешения не было и не могло быть.
Он метался, не зная, что же теперь делать. Он так ждал, когда заживут обожженные руки! И вот теперь, когда сняли бинты, он связан, прикован к этому городу из-за этого рыжего! Он ненавидел его, жалея об одном — не он первый увидел ту гирю, упавшую с прилавка. Для него все решить могла только одна Фаля. Если она запомнила рыжего и сможет помочь его разыскать, Валентин задержится, останется здесь на I какое-то время. Если же нет — уедет.
Но он знал, что у нее самое большое горе в жизни, и боялся тревожить ее расспросами о человеке, купившем ковер, вышитый руками ее матери. Не спрашивал он у нее ничего ни в день похорон, ни в те дни, когда дед и соседки хлопотали о детском доме. Он боялся ее тревожить, а время уходило, уходило безнадежно.
И в то же время, не признаваясь себе в этом, он боялся, что Фаля и в самом деле запомнила рыжего, и тогда придется остаться, чтобы его найти, разыскать, добыть из-под земли, а он с трудом доживал эти последние дни в городе без света, спрятанного за черными дерматиновыми шторами, и почти с ужасом думал о том, что из-за этого рыжего ему придется остаться здесь еще на какое-то время. Может быть, на долгий срок. Может быть, на месяц, на два! Может быть, на целый год! Ему казалось это невозможным, но и уехать, не попытавшись ничего узнать о рыжем сигнальщике, он не мог. А рассказать, объяснить кому-нибудь, что ему помогла обличить предателя его, Валентина, обожженная душа, он не хотел, не мог, боясь, что ему не поверят. Да и как такому поверить?
Целую неделю каждый день после школы — кроме того дня, когда хоронили Фалину мать, — он ездил на рынки города, ходил, ждал, всматривался в каждое мужское лицо, но того рыжего так и не находил. Молодые мужские лица вообще ему почти не попадались. А он искал, ужасаясь при мысли, что, может быть, он и проходит мимо этого предателя и не узнает его… Потом он стал утешать себя надеждой, что рыжий на рынке, может быть, и не появится совсем. А потом другое утешение пришло к нему — может быть, он больше не рискнет появиться со своей ракетницей и в Заводском поселке. Это было слабое, не очень надежное утешение, но он укрепил его в своей душе и поверил ему.
И когда вдруг выяснилось, что Фаля ему ничем не сможет помочь, потому что ей предстояло навсегда уехать из города в какой-то Каменск, он почувствовал облегчение. Все решилось само собой, рыжего ему не найти. И он утешал и успокаивал себя теперь этим — отъездом Фали. И мысленно торопил этот отъезд, потому что ему надо было скорее, как можно скорее забыть рыжего и вырваться туда, куда он стремился давно. Бинты с его рук уже сняли, и хоть пальцы, отвыкшие от движения, все еще ворочались с трудом, все равно руки его готовы были держать оружие.
Белый слепой снегопад укрыл землю плотно и глухо. Укрыл, наверно, и невысокую насыпь над общей могилой, в которой похоронили Фалину мать. И хоть это была общая, на двадцать человек, могила-яма, все равно все-таки можно было прийти к ней когда-нибудь, принести весной цветы… А у его матери могилы не было. Ни у матери, ни у отца, ни у сестры. После похорон Фалиной матери пасмурное небо и темные, пустые, без света, без жизни дни вновь вернулись к нему. И теперь, как никогда, он торопил отъезд Фали в Каменск, потому что только эта Фалина неустроенность мешала ему уехать.