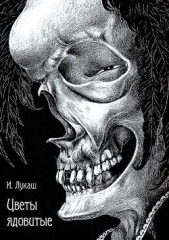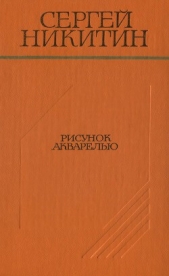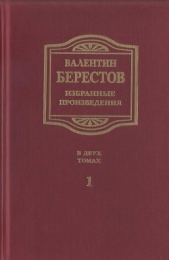Цветы на пепелище (сборник)

Цветы на пепелище (сборник) читать книгу онлайн
В книгу вошли две повести известного македонского писателя: «Белый цыганенок» и «Первое письмо», посвященные детям, которые в трудных условиях послевоенной Югославии стремились получить образование, покончить с безграмотностью и нищетой, преследовавшей их отцов и дедов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вдали громоздился горный хребет; его вершины были облиты золотом заходящего солнца.
Над равниной висела предвечерняя дремотная тишина. Летний, изнурительно-знойный день тонул в оранжевом море заката. В наступающих сумерках взмахивал своими незримыми крыльями освежающий ветерок да едва слышно о чем-то шептались острые листья кукурузы.
Наш усталый цыганский караван медленно плелся по дороге.
Впереди на разномастном коне ехал Базел и пел. Голос его, торжественно тихий и чуть грустный, полный какого- то неясного блаженного покоя, мелодично и плавно лился над землей. Песня его то замирала в шуршании листьев, то взлетала ввысь, подхваченная свежим дуновением ветерка. В этих неожиданных переливах и таилась вся ее прелесть и красота. Песню эту я знал: в ней бездомный цыган, веч¬
10
но скитаясь по дорогам, голодая, страдая, на что-то надеясь и чему-то радуясь, обретает наконец смысл жизни.
Позади Базела тряслась старая, рассохшаяся повозка, запряженная тощей гнедой кобылой с провалившимися боками и гноящимися глазами. Рядом с возницей сидела моя сверстница Насйха. На ее темно-шоколадном лице играли бронзовые отсветы солнечного заката.
Я ехал во второй повозке, которая ничем не отличалась от первой. Белая жеребая кобыла давным-давно привыкла к этим необозримым просторам и неторопливо тащила меня по дороге, поднимая золотые кудряшки пыли.
Старый Мулон наверняка брел где-то позади повозки, поэтому-то я и не обертывался, чтоб взглянуть на него. Там вместе с ним плелась его жена Хёнза, злющая Хенза.
— Слышишь, Таруно, опять он поет! — послышался рядом со мной негромкий восхищенный голос. — С его песнями мне как-то легче живется в этом вечном мраке, да и дорога быстрее кончается...
Слепому Рапушу, моему другу и сверстнику, никогда не приходилось странствовать пешком. Он всегда ехал в той же повозке, что и я. Когда Рапуш слушал песни своего брата Базела, его обычно охватывало чувство какого-то приятного умиления.
А песня, тихая и печальная, все лилась над полями:
Наверно, я землю такую Найти бы не смог и в раю —
То в искорках смеха, то злую,
Неласковую, но мою...
— Песни — наше богатство, Таруно, — шепнул Рапуш.
— Верно, песни — наше богатство, — согласился я.
Больше всего на свете любил Рапуш песни. А нередко и
сам заводил их, и тогда под смычком его скрипки рождались и плыли по воздуху искрометные или рыдающие мелодии цыганских песен.
Да разве было что-нибудь на свете лучше, чем певучая цыганская скрипка Рапуша!
11
— Если б мне пришлось все время молчать, я бы, наверно, думал только о том, что я слепой... А это очень горько... и грустно...
Он сказал «грустно», а на лице у него блуждала сдержанная, дрожащая улыбка, рожденная песней брата.
Я всегда терялся и никогда не знал, как мне надо разговаривать с этим слепым пареньком. Вернее, не то что не знал, а просто не умел. Он употреблял такие мудреные словечки, что часто приводил в замешательство даже взрослых. Зная, что ему не суждено больше увидеть сияние белого дня, Рапуш как бы извлекал этот невидимый свет из струн своей чудесной скрипки. И никто никогда не видел его грустным.
Но беду не скроешь!
Мой слепой сверстник разговаривал редко. Только в минуты грусти или восторга скажет, бывало, несколько слов и тут же замолчит. Обычно же он сидел молча, неподвижно уставившись в одну точку, словно разглядывая что-то в необозримой дали.
Да, ему не дано было увидеть великолепия красок, на которые так щедра — особенно поутру или в сумерки — наша природа, но зато он улавливал все ее шорохи, все ее звуки, все ее даже самые далекие, самые затаенные голоса и жадно, ненасытно впитывал их.
Вот и сейчас, пока мы с ним тащились в скрипучей повозке по пыльной проселочной дороге, он не проронил ни слова, если не считать его упоминания о песнях.
Вскоре мы увидели длинный ряд ив, листья которых были уже тронуты румянами уходящего дня. Ветерок доносил до нас речную прохладу. И вот за крутым поворотом дороги перед нами открылась во всей своей вечерней красе золотистая лента реки. Текла она как-то неторопливо, лениво, устало. Не слышно было ни говора, ни шепота волн. Тишина... Везде и во всем... Только когда лошади и повозки, словно нарушив вечернюю дрему, стали переправляться через реку, послышалось журчание и плеск воды.
12
Далеко впереди сквозь ветви деревьев замелькали красные крыши незнакомой деревни.
На правом берегу реки лениво колыхались сочные луга, окруженные стражей ив и пирамидальных тополей.
Базел слез со своего разномастного коня, и песня тут же умолкла.
Вместе с песней кончался и дневной наш путь.
Ко мне подошел папаша Мулон:
— Распрягай! Здесь и заночуем.
Стало темнеть, и все сверкающие золотом краски вдруг разом померкли, подернулись сумеречной пеленой.
Деревья стали похожи на каких-то огромных серых джиннов, сидящих на корточках посреди равнины и неподвижно глядящих в небо.
Расплавленное золото речки напоминало теперь зыбучий серый пепел; пылающий пожар над горами потух.
Кое-где в домах, приютившихся на необъятной равнине, вспыхивали первые огоньки, в небе загорались первые звезды.
II
После долгого пути под палящими лучами летнего солнца я очень устал. Веки у меня слипались, хотелось поскорее завалиться спать.
Я улегся у самого ствола одинокой раскидистой ивы. Рядом стояла наша повозка. Между спицами ее колес виднелись треугольные лоскутки угасающего бледно-голубого неба, а на фоне их маячили два темных силуэта.
Сон медленно отступал перед напором нестерпимого любопытства: о чем так тревожно шепчутся эти двое? Я их сразу узнал: то были Мулон и Хенза. Почему так тихо и вместе с тем так раздраженно, даже злобно они говорят? И о чем?
Хенза:
- Все равно он будет презирать тебя. Настанет время,
13
и он оттолкнет, отбросит тебя, как тряпку, случайно подобранную на дороге.
Мулон:
— Легче снести презрение, чем укоры совести... Я не хочу, чтобы он был одинок, не хочу, чтобы и в могиле меня преследовали его заплаканные горящие глаза.
Напрасно пытался я уловить смысл их речей.
Хенза:
— Вот дурень, ведь он же не цыган. Он не нашего роду-племени, не нашей крови. И когда вырастет, он поймет это и постарается найти место среди своих... Прогони его сейчас, пока он еще мал! Он только жрет наш хлеб, хотя мог бы и работать... Сбрось с плеч эту обузу.
Мулон:
— Замолчи, ведьма! Мне не нужны твои подлые советы. Это мой паренек, я его вырастил...
Папаша Мулон, должно быть, разозлился.
И хотя я еще толком не вник в таинственный смысл их ссоры, но уже понял — речь идет обо мне: оставаться ли мне с ними или они выведут меня на дорогу и...
Я видел, как Хенза вскочила.
Я, конечно, не знал, что она собирается делать, и все же меня бросило в дрожь.
— Ну ты, ведьма!.. Сядь на место! — прикрикнул на нее Мулон.
— Отвези его в город. Там есть дом для таких, как он, — бубнила Хенза. — Или прогони его. Вон там деревня, до нее всего два шага... Ты ведь уже старик, Мулон, и кусок хлеба достается тебе не легко... Известное дело: старому коню не под силу ходить вокруг столба на гумне. А тут целых три рта — хе!.. — Хенза говорила негромко, но с ехидцей. — Коли ты гол как сокол, то никто не наполнит тебе котомку. Околеешь где-нибудь на дороге, как паршивый пес...
Шепот Хензы становился все злее, все ядовитее.
— Вот ведьма... Тебе ли не знать, что я всю жизнь был
14
одинок! — отбивался Мулон. — Да будь я царем семи царств, и тогда бы отдал все на свете только за то, чтоб звенел возле меня детский смех, слышался детский говор... Я растил Таруно с пеленок. Он мой!..
Ну до чего же вредна эта Хенза! Никто ее не любил. Смутно помню — был я тогда еще совсем маленьким, — как однажды привели ее в табор связанную: где-то попалась на воровстве. Тогда папаша Мулон выгнал жену и не хотел о ней больше и слышать. Долго ее не было с нами, но потом она как-то опять пристала к табору. Добряк пожалел старуху: а то и впрямь околеет одна на дороге. И Хенза попросила у него прощения. А теперь?.. Теперь снова ей бросилась в голову дурная кровь.