Воспитание души
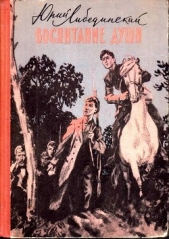
Воспитание души читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Экипаж покатился, Тереза исчезла. Я с криком бился на полу, и тут меня вдруг схватили не руки матери, которая тоже растерялась и, видно, готова уже была отменить отъезд и задержать Терезу, а сильные и надежные руки старушки няни, приставленной к моей сестре. Прижав меня к своим многочисленным юбкам и бормоча что-то успокоительное, няня увела меня в глубь дома.
Сестра была слишком мала, чтобы с ней дружить, и няня давно уже приглядывалась ко мне своими карими, глубоко посаженными глазами. Но до отъезда Терезы она свести со мной дружбу не могла, и, только уже после того как Тереза уехала, я все время помню себя возле няни.
Я спрашивал, она отвечала, я рассказывал, она выслушивала, поправляла и рассказывала сама. Вместо немецких колыбельных песен, которые пела мне Тереза, няня стала петь мне русские, навеки запомнившиеся:
Злополучная судьба кота вызывала не столько сон, сколько тревожные размышления:
— Нянь, это она за что его так?
— А кто ее знает? Одно слово — люта… Значит, злобы удержу не знает!
Так в мой мир входит слово, новое слово. И, когда кучер Дмитрий, войдя со двора на кухню и снимая с бороды и усов сосульки, говорит: «Ну и мороз лютый!»— сразу понятно, какой силы мороз свирепствует на дворе.
С детства нас называли по-иностранному: меня — Жорж, сестру — Рашель. Няня сразу же начала дурашливую войну против этих имен, притворяясь, что не может их запомнить.
— Ержик-Коржик, Расшей-Зашей… — с издевкой повторяла она.
С уменьшительным именем сестры — Рика она еще примирилась, но о моем заявила решительно:
— Георгий (я так был записан в метрике) — это значит по-деревенски Егорушка, а по-господски Юрочка! Я буду его Юрочкой звать.
И это имя прилепилось ко мне на всю жизнь.
Она была неграмотна, но первый, кто раскрыл мне тайны родного языка, это была няня. От нее узнал я, что смородина — это самородина, потому что сама родится, и убедился в этом, когда в 1920 году попал в сибирскую тайгу, где под кедрами весь подлесок состоял из дикой смородины; ягоды ее были чуть поменьше винограда, а по вкусу своему и запаху превосходили любую садовую ягоду. Черника — по цвету, черная. Калина — каленая. Вишня — на ветках виснет. Земляника — к земле никнет. А клубника — эго круглый клубочек-колобочек.
Теперь уже не помню, у нее ли услышал я песню:
Но, наверное, от нее, так как помню эту песню столько же, сколько себя. В ней для меня воплотилась связь родного языка и родной природы.
От Терезы остались у меня в памяти немецкие слова, которые очень интересовали няню. Она переспрашивала, переиначивала их, искала в них сокровенный смысл.
— Лошадь — значит, ферт? А по-нашему ферт — это кто повыше забраться хочет, вроде как на коня сесть! Корова — ку? Ку-у-у-у, а по-нашему му-у-у… Кошка — кацца? К нашему кыска подходит. А хлеб — брот? Брать да в рот!
Няня любила рифмовать. Утром, проснувшись и сразу сев на постели, она оглядывала живыми маленькими глазами наши кроватки за сетками и спрашивала:
— А ну, господа сенаторы, не обделались ли которы?
— Няня, это кто сенаторы?
— А это при царе советчики.
Летним утром она распахивала окно, и вместе с прохладой лился в дом петушиный заливистый крик. Няня, покачиваясь в лад, тоненько и тягуче выводила;
— Ку-ка-ре-ку!..
И сама же снова в лад отвечала:
— Дома нету! На покосе, сено косят…
Это была почти что песня, может быть, сочетание двух или трех протяжных, но различных звуков.
Я чем-то похвалился перед отцом, он рассеянно сказал:
— Молодец! — и ушел.
Нянька говорит:
— Молодец против овец, а против молодца и сам овца. Вот те на!..
— Няня, папа сказал, что в Челябинск поедет и меня возьмет! (Челябинск находился неподалеку, но в моем представлении это самый большой город на свете.)
— Как же, поедешь ты с печи на полати… — недоверчиво говорит няня и оказывается права: однажды утром, проснувшись, я обнаруживаю, что папа уехал в Челябинск.
А печь и полати есть в кухне, с печи на полати — это очень близко.
Я опять чем-то хвалюсь:
— Я знаю, знаю, знаю…
— Много ты знаешь, с носу да в рот! — говорит няня.
Чем я тогда хвалился, я даже вспомнить не могу, а эту краткую присловку запомнил на всю жизнь. Думаю, наверное, неспроста предназначала для меня нянька эти присловки…
Один раз, слушая, как кто-то за окном бойко забренчал на балалайке (няня и сейчас поправила бы меня и непременно сказала бы, что на балалайке не бренчат, а жундят, бренчат, мол, бубенцы), она тихонько запела в лад балалайке:
Я тут же спросил, что за помещица и за что камаринский мужик ее убил. И получил в ответ довольно обстоятельный рассказ о злых господах-помещиках, «о крепости», как называла няня крепостное право и о том, из-за чего бунтовали крестьяне. От нее же узнал я и о Пугачеве, и этот рассказ слился у меня с дурашливо-грозной песенкой о камаринском мужике.
Пугачев был в моем детстве первым достоверным историческим именем. Хотя нянька называла царей по именам, но я их путал, этих Александров и Николаев, первых, вторых и третьих… Они помещались где-то далеко, в Санкт-Петербурге, окруженные сенаторами и генералами. А в Миасском заводе прямо показывали на Верхне-Уральский тракт, по которому пришел сюда Пугачев с казаками и приисковыми. Не знаю, верно ли это исторически, но так утверждали жители Миасского завода. Мы в детстве играли в пугачевцев и солдат. Игра состояла в том, чтобы поймать Пугачева, не дать ему выбежать из сада, а если он выбежал, значит, выиграл…
Над озером Тургояк высилась Пугачевская сопка, а в колдовское топкое озеро Яныш-куль Пугачев, будто бы, спасаясь от царских войск, бросил мешок со своей казной. Солдаты вырыли канаву, чтобы спустить Яныш-куль в Тургояк, но поперек этой канавы сама по себе встала каменная запруда, вода из Яныш-куля сквозь течет, но не уменьшается. Все это я видел своими глазами.
На Урал я привез смутные воспоминания об иной, прожженной солнцем песчаной земле, где города назывались как-то по-иному, по-южному, по-солнечному: Одесса и Херсон, Мелитополь, Никополь, Севастополь, Симферополь. Мне казалось, что от самих этих названий веет сухим зноем и песком. Здесь названия звучали совсем по-другому, травянисто-влажно, словно горное эхо слышалось мне в словах: Сыростан, Миасс, Иссык-Куль, Кисягач, Тургояк…
А няня называла совсем незнакомые места: Калуга, Тула, Орел, Рязань (она выговаривала Резань). Она приехала сюда из-за родной (родной) сестры, которая вышла замуж за здешнего. Няня хвалила свои родные места, тамошний народ и говорила, что здешний народ дикий, неприветливый и говорит несуразно. И верно, когда, приехав в Москву, я пошел в первый раз в баню и попросил продать мне вехотку, подразумевая мочалку, меня с недоумением переспросили. Я долго не мог привыкнуть вместо уральского «назём» говорить «навоз» и нелегко отказался от употребления такого слова, как «вица», оно мне и сейчас кажется выразительнее, чем хворостина или ветка. «Вот понужну тебя вицей!» — с угрозой говорили в Миасском заводе. А такое уральское слово, как «суперик», до сих пор нравится мне больше, чем «кольцо» или «перстень».


























