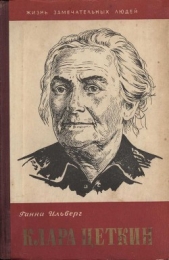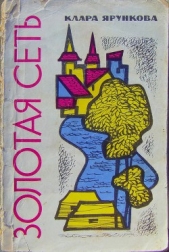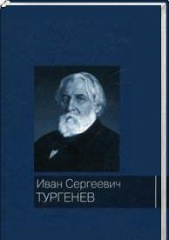Единственная

Единственная читать книгу онлайн
«Единственная» — одна из лучших повестей словацкой писательницы К. Ярунковой. Писательница раскрывает сложный внутренний мир девочки-подростка Ольги, которая остро чувствует все радостные и темные стороны жизни. Переход от беззаботного детства связан с острыми переживаниями. Самое светлое для Ольги — это добрые чувства человека. Она страдает, что маленькие дети соседки растут без ласки и внимания. Ольга вопреки запрету родителей навещает их, рассказывает им сказки, ведет гулять в зимний парк. Она выступает в роли доброго волшебника, стремясь восстановить справедливость в мире детства. Она, подобно герою Сэлинджера, видит самое светлое, самое чистое в маленьком ребенке, ради счастья которого готова пожертвовать своим собственным благополучием.
Рисунки и текст стихов придуманы героиней повести Олей Поломцевой, которой в этой книге пришел на помощь художник КОНСТАНТИН ЗАГОРСКИЙ.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Приветик, — раздалось вдруг в темноте, — а что ты там… как это… что ты там видишь? Уж, наверное, что-нибудь интересненькое, хи-хи…
Гром меня разрази — это Бабуля!
— Ты откуда, ночная бродяжка, а? — соскочила я с ограды и схватила ее за пуговицу.
Она не ответила. Она полезла на ограду, вообразив, что я подсмотрела бог знает что. Жадная она на это. Я стащила ее за полу пальто.
— Не любопытничай, скажи лучше, где тебя носило!
— Пойдем, ну… как его… к нам! — отозвалась она. — А я, понимаешь, на теории была, только, понимаешь… только немножко… в общем, не совсем.
— А-а-а-а-а! И боишься мамы. Нет уж, ступай сама, я тебя покрывать не стану. Ну, марш!
Однако избавиться от Бабули не так-то легко. Она болезненно любопытна, и, когда на нее находит, она обо всем забывает. И теперь моментально забыла, что боится матери, и подвергла меня такому допросу, как полиция агента Си-Ай-Си в телефильме.
— Ах, — говорю, — просто я возвращаюсь с кутежа. Голова немного разболелась, вот я и вышла прогуляться. Мы пьем с самого обеда.
Глаза у Бабули так расширились, что в них отразилось четыре освещенных окна: два с первого этажа и два со второго.
— Гос-с-споди! — выдохнула она. — А что вы пили?
— Ну это… как его… — передразнила я ее, — как это тебе… ну… объяснить. Лимонад! Гектолитры лимонада. Карчи выпил примерно три, Кинцелка с женихом — по два, я столько же, Петерсон ничего, и так далее. Не прикидывайся дурочкой, — рассмеялась я. — Что пьют в компании?
— Ольча! — Бабуля поднялась на цыпочки и заглянула мне в глаза так близко, что в отражении окна в ее глазах я различила маленькую тетю Машу. — Ольча! Ты пьяная?
Ох, как она восторгалась мной! Она смотрела на меня с таким восторгом, что в ее глазах прибавилось отражение еще одного окна, на третьем этаже.
— Конечно, пьяная! — кивнула я. — Абсолютно вдрызг.
— Хи! — запрыгала она передо мной. — А тебе не плохо?
— Не сходи с ума, — сказала я, как Петерсон. — Я чувствую себя абсолютно великолепно. Абсолютно!
— Почему ты все время говоришь «абсолютно»?
— Потому что я пьяная, кошечка.
— Разве, когда человек пьяный, он говорит «абсолютно»?
— Ясно. Он говорит «абсолютно», потому что ему абсолютно.
Бабуля вздохнула от восторга, а мне опять стало противно — зачем я так глупо выдумываю? И не в том дело, что я обманываю Бабулю! Отнюдь. Перед ней у меня совесть чиста и нисколько не грызет, как грызла, например, из-за Сонечки или когда-то давно из-за мамы. Видно, совесть знает, из-за кого грызть. Точно знает! И уж если возьмется, то грызет как бешеная. Знаем! Но что меня грызет, когда я думаю об Имро? Если б я знала! Только наверняка не совесть. Потому что, когда грызет совесть, тогда становишься лучше, и многое можно исправить. А вот когда грызет не совесть, а что-то другое, становись сколько хочешь лучше, все равно уже ничего не исправишь…
А может, я и не обманываю Бабулю. Может, я и в самом деле чуточку пьяна. Ведь я выпила немножко. Конечно, не вдрызг, а чуточку, может быть. Чуточку-то я, может быть, и пьяна, но тогда я должна бы чувствовать себя хоть чуточку великолепно. А этого нет… Этого определенно нет, и чувствую я себя, наоборот, абсолютно скверно.
— Ну, иди, — подтолкнула я Бабулю, — а меня не зови. Не пойду.
— Ты возвращаешься кутить? — спросила она одним дыханием.
— Нет. На сегодня с меня хватит.
— Тогда пошли к нам!
— Не пойду.
Я могла сказать, что возвращаюсь кутить, и она бы отстала. Я этого не сказала, потому что у меня в голове забрезжила совсем другая мысль.
— Катись! — прикрикнула я на Бабулю. — И если только пикнешь о кутеже, мои ухажеры подкараулят тебя вечером — и тебе крышка!
— Да, но… — залепетала она, — ты… как его… если хочешь знать, я никогда не сплетничаю… знаешь… Ну… пока!
В дверях она еще раз обернулась, спросила жалобно:
— А ты не боишься одна?
— Сама бойся! — отрезала я. — Я еще посмотрю, как тебя выдерут.
Она дернула плечом, навалилась на тяжелую дверь и скрылась. Я огляделась. Нигде ни души. То есть нигде поблизости. Из-за тумана я не могла видеть далеко. Зато в кухне видела все отлично. Тем более если влезть на ограду. Я видела, что тетя Маша уже не ходит по кухне, а сидит за столом, словно оцепенев. Ждет. Наконец, наверное, позвонила Бабуля. Тетя Маша не воспитывает, она кричит, грозится поварешкой, Бабуля уклоняется от нее, бегая по кухне, дерзит, оправдывается всем, чем можно и чем нельзя… Может быть, ссылается на меня! А почему бы и нет? Из страха перед поварешкой может и про меня сболтнуть. Ах, Бабуля, Бабулька, не позволяй себя бить, скажи, что ты заболталась со мной! Скажи: Ольга, мол, стоит на улице в тумане, скажи хоть бы и то, что она пьяна! Бабулька, Бабулечка!
Вдруг Бабуля уже одна в кухне. Прямо в пальто подбегает к столу, оглядывается, облизывает пальцы… Дверь на улицу открывается, тетя Маша, как в замедленном фильме, идет к калитке, складывает руки, пряча поварешку, ежится от холода. Прикидывается, что не видит меня, смотрит вдоль по набережной, оглядывается в тумане — и вроде случайно замечает меня.
— Привет, Олик, — говорит она. — Ты на трамвайной остановке не встретила дядю Томаша? А то заказывает оладьи к семи часам, а явится в девять и будет ворчать, что они твердые, как подошвы. Просто не знаю, что с ним делать. Ну, сегодня этот номер не пройдет, сегодня я отлуплю его этой поварешкой, а оладьями запущу ему в голову. Надеюсь, к тому времени они порядком затвердеют. Я нарочно бухнула два яйца в них, чтоб потверже вышли, — знала, чем дело кончится. Если когда соберешься замуж и вздумаешь посадить себе на шею мужа, сначала гони его к доктору, пусть скажет, здоров ли у него желудок, и если нет, ни за что не выходи, лучше ноги себе сломай, сразу обе — только не выходи за желудочника!
Продолжая болтать в том же духе, она незаметно увлекала меня к двери. Чепуху она, конечно, болтала, всем известно, что она сама выдумывает диету для дяди, но она была просто прелесть, когда так ругала своего мужа и делала вид, что нисколечко не удивляется моему появлению здесь, и когда прятала поварешку — короче, когда просто давала мне время.
— Желудочник, он тебя в могилу сведет, и еще рада будешь, что лежишь спокойно, отдыхаешь от него. А он со своим больным желудком сто лет проживет, изводя окружающих. Жить будет и по диете питаться, а к врачу не пойдет ни за какие шиши, чтоб не открылось, что желудок-то у него здоровый и есть ему можно все. А когда это откроется, тут уж конец — нельзя будет жену изводить, и вся жизнь потеряет для него всякий смысл. Но сегодня я сыграю ему польку. Поварешкой по спине сыграю, а оладьи швырну ему в голову, и точка! А ты что тут еще делаешь? Марш в комнату! Через полчаса явишься и прочитаешь мне стихотворение наизусть! Я тебе покажу, как двойки приносить! И еще кое о чем поговорим! Я тебе покажу…
Это уже относилось к Бабуле. Она испарилась как дым, но я успела облить ее ледяным взглядом, пусть видит, что я знаю, кто меня выдал. Однако ей это как с гуся вода, такой у нее характер. Поминутно меняется, бесхребетная какая-то.
— Хочешь взбитых сливок? — спросила тетя Маша и пошла к буфету за тарелочкой.
Доставала она эту тарелочку целую вечность, целую вечность стояла спиной ко мне и ничего больше не говорила — ни о том, кому наподдаст, ни о том, кому запустит оладьями в голову. Ничего она не говорила, и тишина стояла такая, что я против воли разревелась и сначала ревела тихонько, а потом уж вовсю. Напрасно пыталась я удержаться, все во мне вышло из повиновения! И я сдалась и только плакала, плакала, плакала… Два раза звонил телефон, тетя Маша не отошла от меня, не оставила меня. Бабуля приоткрыла дверь, но тетя Маша не разрешила ей поднять трубку — ей это запрещают, потому что ей названивают мальчишки. Тетя Маша не разрешила ей, а это, может быть, звонили не мальчишки, а наши. Совершенно определенно звонили не мальчишки, потому что совершенно определенно это были наши. Уже разыскивают меня по всей Братиславе, уже умирают от страха, уже их — наконец-то и их! — терзает совесть. С трудом пролепетала я тете Маше на ухо, что, наверное, звонят наши.