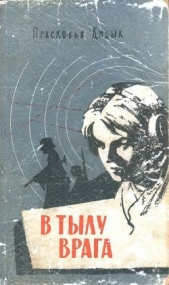Мы с Санькой в тылу врага

Мы с Санькой в тылу врага читать книгу онлайн
Герои этой повести — обыкновенные деревенские хлопцы — Ваня и Санька. Их деревню оккупировали фашисты в первые месяцы войны. Тяжелые испытания выпали на долю этих хлопцев, на долю их родных и близких. Дети видят расстрелы односельчан, грабеж, насилие и хотят мстить. Но вот несчастье — не выросли. Не берут их в партизаны, не доверяют им взрослые своих дел.
Но хлопцы не теряются. Они помогают раненому комиссару, запасаются оружием и в любом случае стараются навредить врагу…
На республиканском конкурсе на лучшую книгу для детей, посвященном 50-летию Советского государства, 50-летию Белорусской ССР и 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, эта повесть удостоена второй премии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Офицер пускает тонкие струйки дыма и рассказывает, как он любит «руски мальшык», как ему жаль их. Им, бедным, война помешала учиться, многие из них сироты, потому что отцов силой погнали на войну. Санька — мальчик умный, и он, конечно, расскажет, кто подучил его украсть пистолет и сумку. За это ему дадут много очень вкусных конфет и покатают на машине.
Саньке припомнилось, как его везли сюда под дулом автомата. Покатали уже, хватит, сыт по горло.
Ему подарят самый настоящий пистолет, если уж ему так хочется.
— Ты хотел такой пистоль? — спросил немец, кладя оружие на стол. — Пистоль будет твой…
Люди, которые учат «руски мальшык» красть немецкие сумки с картами и пистолеты, — очень плохие люди. Они сами боятся это делать и посылают «бедны мальшык» на смерть. Но Саньке ничего не будет. Накажут только того, кто его подучил. Немцам, которые били его там, под окнами в картошке, тоже здорово влетит, потому что «некарашо обидит бедны мальшык».
— Ты будеш гаварит, затшем брал пистоль?
Санька молча кивнул головой.
— Затшем?
— Воробьев стрелять, — признался Санька.
— А сумку?
— Так. Хотел в нее что-нибудь класть. Она красивая.
Нет, офицер ничем не сможет «помогайт», если Санька будет таким упрямым. Его будут бить, его могут расстрелять. Они хотят наказать только тех нехороших людей, которые учат красть. Красть некрасиво и стыдно.
— Воробьев стрелять, — стоит на своем Санька.
Сильный удар по лицу свалил его на пол. В глазах замелькали синие, розовые, желтые огоньки, поплыли, закружились потолок, лампа и офицер вместе со столом.
— Воробьев? — спрашивает немец.
— Воробьев, — хнычет Санька.
Его бил верзила-солдат, бил тяжелыми волосатыми кулаками, бил ремнем, пинал сапогами. Потом, когда Санька потерял сознание, его облили из ведра водой. Мокрого, окровавленного, подняли под мышки и снова посадили на скамью перед столом.
Санька боялся крови. Он не мог видеть, как хлопцы бьют камнями лягушек, он убегал куда глаза глядят, когда отец колол свинью. А тут почему-то равнодушно посмотрел на свои красные пальцы и опустил голову. По лбу бежала тонкая струйка крови, залила глаза. Санька протер их рукавом и глянул на офицера, как сквозь цветное стекло. Офицер розовый, солдат розовый, лампа над головой розовая.
Он, кажется, оглох.
В голове звенят какие-то колокола. Словно бы где-то за стеной кричит офицер. Что он кричит — не слыхать, но известно и так. Он хочет знать, зачем Санька взял пистолет.
— Воробьев стрелять.
Его притащили в подвал едва живого, как и Лебеду, толкнули вниз по лестнице.
— Воробьев стрелять, — сказал Санька подхватившему его старику с бородой-лопатой и потерял сознание.
35. Я ВСТУПАЮ В МАРИНИНО
Всю ночь я продрожал на берегу реки в лозняке. Утром, увидав трех женщин с кошелками, вылез из куста и подался вслед за ними. Расчет был простой — женщины, скорее всего, идут в местечко, хаты которого видны на том берегу. Когда их будет перевозить перевозчик, залезу в лодку и я.
Так оно и вышло. Переправившись, женщины стали рассчитываться, а я спрыгнул прямо в воду и побежал, потому что платить было нечем.
— А разве ж это не твой, Христина? — удивился перевозчик, мужик с плаксивым лицом, и стал браниться мне вслед. Так уж я теперь его боюсь! Пусть попробует догнать. Теперь мне сам черт не брат. Выбравшись на песчаный, разбитый машинами и подводами большак, я направился в сторону леса. Чтобы снова не напороться на немцев, держусь поближе к сосоннику.
Скупое солнце слегка нагрело песок, лишь в теньке под кустами еще белеет иней. Щекочут в носу грибные запахи, блинами расселись старые маслята. Поднял один, второй — кишмя кишат черви.
И вдруг дорогу мне преградил поваленный телеграфный столб. Пень от столба в мой рост. Он ощерился острыми щепками. Какая-то неведомая сила разорвала бревно надвое. Подхожу ко второму столбу — и этот лежит поперек дороги, и тоже щерится белыми щепками. Провода порваны, перепутаны. И третий столб, и четвертый… Да что же это такое? Не ветер же их поломал. Радостно дрогнуло сердце — партизаны! Свидетелем тому был и мост через небольшую речушку с непроходимыми, заболоченными берегами, вернее, то, что осталось от моста. А остались от него лишь черные головешки, торчащие из бурой торфяной воды.
В деревню Маринино, приютившуюся на опушке соснового бора, я вошел в боевом приподнятом настроении, как вступают освободители в столицы. Это был не просто я, а передовой отряд… Правда, у меня не было знамени, и никто не вынес мне хлеба-соли. Кишки играли марш. Свинья с двумя пестрыми поросятами, не подозревая, кто идет, разлеглась на дороге. Я дал одному поросенку босой ногой пинка, тот заверещал и отскочил в сторону. Женщина, бравшая у колодца воду, с любопытством проводила меня взглядом, но ничего не сказала.
Я собирался пройти деревню без привала. Скорее в лес — там партизаны. Но возле сельуправы пришлось задержаться. До войны здесь, видно, было правление колхоза. В управе — ни одного окна, дверь, снятая с петель, валяется у крыльца. По дороге ветер гоняет бумаги с немецкими орлами и печатями. На бревнах, сваленных напротив управы, сидит местный житель и сосредоточенно ковыряется в носу. Ему лет шесть, как и Глыжке.
— Кто это так расколошматил? — спрашиваю у него.
Местный житель смотрит на меня серыми любопытными глазами, утирает рукавом нос и только сопит.
— Ты, видно, не знаешь…
Мальчугана это задело.
— Ага, не знаю! — обиделся он. — Партизаны. Они ночью стреляли.
«Если так, — думаю, — из этой деревни я никуда не пойду. Они здесь где-то близко. Дождусь. Вернутся».
Местного жителя мать позвала есть щи, а я остался сидеть на бревнах. Сижу, греюсь на солнце, поглядываю на лес, стеной встающий за лужайкой, и глотаю слюнки — из трубы ближней хаты доносится запах свежего хлеба.
Целый день я мозолю людям глаза. Кто ни пройдет мимо — присматривается: незнакомый мальчишка. Что ему здесь надо?
Вот уже и вечер наступает, а партизан все нет. Опускаются на землю холодные сумерки, луг и лес окутывает серая дымка. Где-то на околице робко подала голос гармошка и сразу же умолкла. К колодцу подошла женщина набрать воды, и старый журавль скрипит, будто жалуется на свою немощь. На соседнем дворе мужик орет на лошадь:
— Куда ты, волчье мясо!
Лошадь взобралась на какие-то жерди и гремит копытами на всю улицу.
Деревня укладывается спать. А партизан все нет. Нужно идти навстречу.
Старый бор встретил меня тревожным шумом вершин. В нерешительности я постоял немного на поляне и несмело подался по просеке в глубину. С дороги не сворачиваю, можно заблудиться.
Громко трещат под ногами сухие ветки, от неожиданности я каждый раз вздрагиваю и потом подолгу прислушиваюсь. Ночной лес полон таинственных звуков. Кряхтит сухая сосна с голыми ветками-руками. Вот что-то пискнуло в кустах, зашуршало, и у меня мурашки пробежали по спине.
Я изо всех сил вглядываюсь во мрак, хочу увидеть партизанские костры, ловлю ухом каждый звук, каждый шорох в надежде, что вот-вот услышу грозный окрик: «Стой! Кто идет?» Но не видно костров, не слышно партизанского часового. Неумолчно шумят над головой сосны, заблудился в молодом березняке беззаботный ветер. И вдруг… Нет, это мне не почудилось. Я отчетливо слышал треск. Где-то в стороне. Я замер. Минута, вторая. И вот снова. Только уже с другой стороны. Мне стало страшно. Кто-то ходит вокруг, следит за каждым моим шагом. Но кто? Может, человек, а может, и волк.
Я вернулся назад и за марининскими огородами забился под стог. И снится мне Санька. Он будто бы пришел к нам в гости. На нем буденовка и красноармейская шинель. На боку пистолет, украденный у немца. Бабушка по такому случаю печет пышки. Не те черные и тяжелые, как глина, из тертой картошки с примесью самодельной непросеянной ячной муки, которые бабушка почему-то называет «лапониками», а настоящие, на хорошей закваске, из пшеничной крупчатки. Она бросает пышки в решето, а мы украдкой хватаем их с Санькой и едим. Проглотили по одной, глядь — пышки печет не бабушка, а Неумыка.