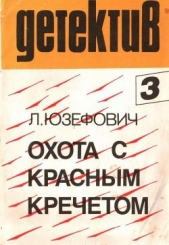Не спрашивайте меня ни о чем

Не спрашивайте меня ни о чем читать книгу онлайн
Повесть о выпускниках школы, о формировании в молодом человеке нравственного идеала, о первой любви.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
К нам подошел седоголовый и седобородый мужчина в помятой капитанской фуражке. Добродушно улыбаясь, он спросил, не беспокоит ли нас их расшумевшаяся бражка.
— Да что вы, — сказал я, — нисколько…
— Надо мужикам погулять, они это заслужили, — засмеялся он и ушел на свое место.
Потом они запели о молодых годах, о прекрасной юности, которая уже не вернется, пели весело, потому что эта песня ни в коей мере не была о них самих. Они пели ее, потому что надо было что-то петь и надо было петь красивую песню.
— На тебя, наверно, подействовал унылый пейзаж Юриса — хмурое небо, увядшая трава на вешалах. Стоит взглянуть на такой луг, и сразу сам впадешь в уныние, — засмеялась Диана.
— Пейзаж там не унылый. Даже наоборот. Когда я посмотрел на него, мне вспомнилось что-то такое… удивительное. На той акварельке был схвачен миг… перед чудом…
— А бывает с тобой, что, уходя из дому, ты посмотришь на этот луг и вдруг почувствуешь, что должно произойти что-то хорошее? — Она внимательно поглядела на меня.
— Я мог бы тебе наплести, что отвез акварель домой, вставил в рамку, повесил на стену, мог бы сочинить, что чувствую, когда гляжу на луг утром и что — вечером, как мечтаю о тебе, как вспоминаю запущенную дачу и ту субботу. Но скажу тебе правду: мазню эту я выбросил из окна вагона. На перегоне между Пабажи и Лиласте.
— Почему? — удивилась она. — Зачем ты это сделал?
— Просто так. Мне не нужна мазня дона Педро, хотя она и понравилась мне.
— Какогодона Педро?!
— Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду.
— Моего брата?
— Никакой он тебе не брат. Он дон Педро. И я не хочу, чтобы у тебя был брат дон Педро. Пускай он будет братом кому угодно, только не тебе.
— По-моему, ты слегка спятил.
— Может быть. Но я не хочу, чтобы твой брат был дон Педро.
— Тут уж я бессильна что-либо сделать.
Я молчал, закурил новую сигарету.
— Иво, не дури.
— А я и не дурю. Я только не желаю, чтобы твоим братом был этакий дон Педро. Да я и не верю. Дон Педро вовсе не брат тебе.
— То есть как это, Иво?
— А так, что он не может быть твоим братом. У такой, как ты, брат не может быть дон Педро. Как ты этого не понимаешь?
Рыбацкая песня оборвалась. Бренчали стаканы. Вошла дородная тетка и направилась прямиком к рыбакам. А ну-ка, кранец старый, марш домой! Очень ему было неохота уходить. Тут тепло и хорошо, и тут останутся его друзья. Давай, давай, и не прекословь, насосешься тут как пиявка. Нет, это ты пиявка, ко мне присосавшаяся. Да пускай он побудет, кричали мужики, мы его домой доведем! А ты, Мартынь, попридержи язык! Сейчас скажу твоей старухе, пускай и она придет, заберет тебя отсюда. Нет уж, решает ее муж, никуда я отсюда не пойду, отлипни от меня, пиявка. Ну, сиди, сиди! Зато дома ты у меня получишь, спалить этот притон надо дотла! Так идешь ты или нет? Никуда, никуда я не пойду! Она выбежала на улицу, оставив дверь приоткрытой.
И рыбацкая гульба зашумела дальше, потому что, пока рыбаки были вместе, они были сильны. Пускай придут сюда все эти чертовы перечницы, говорили они, мы им покажем, где раки зимуют! Этот вечер наш, а завтра — там поглядим.
Буфетчица поставила пластинку. Пока игла шипела без музыки, было слышно, как снаружи шлепают по лужам капли дождя. На пластинке была вещь Раймонда Паулса, и мужики подпевали.
— Иво, а чем тебе не понравился Юрис?
— Не все ли равно? Я знаю лишь то, что у тебя не может быть такой брат, — уныло долбил я в одну точку.
— У тебя же у самого есть брат.
— Нету, нету, нету!
— Ты мне однажды рассказывал.
— Был, был, был! Нету больше… Ешь сосиски. Наверное, уже совсем остыли…
— И ты его любил?..
— Да не знаю сам! Быть может, иногда любил и, может быть, очень часто не любил тоже. О чем я вспоминаю… Это было давным-давно… Я был мал и глуп, чтобы что-нибудь понять…
…Любил ли я Эдиса? И не узнал ли я об этом лишь в тот день, когда мы вошли в некий дом, называвшийся странно и страшно — часовня?
Там в черном ящике лежал Эдис. Гроб был обложен венками, и еще было несметное количество цветов. Но брат мой не любил цветов. Почему, не знаю. Он лежал в своем новом костюме из английской шерсти. Я ходил с ним на первую примерку.
— Ну как, Иво? — Он повернулся на каблуках.
— Отлично, Эд, но брюки в коленках надо чуть ушить.
Братишка сказал это портному, и тот сузил в коленях.
Брюки получились мировые и пиджак тоже. Вообще мне казалось, что он может нарядиться в лохмотья и все равно будет иметь шикарный вид.
А потом там играли на органе, пели печальные песни, какой-то мужчина длинно выступал, а Эдис лежал и не двигался, и я стоял и смотрел.
Все плакали и утирали слезы, а я смотрел на Эда и чего-то ожидал, сам не знаю чего, потому что так встречался со смертью впервые в жизни. Видал я сморщенных старичков и старушек, но так, Эди…
Он лежал бледный, безмолвный и красивый. Потом какая-то тетка подтолкнула меня вперед, чтобы я подошел к Эдису. В руке у меня была только одна красная альпийская фиалка, потому что я знал — Эдис не любит цветы. Я не хотел брать букет лилий или других дурацких цветов, и тогда мне сунули в руку альпийские фиалки. Все, кроме одной, я выкинул в мусорную кучу. Вы ведь знаете, на кладбищах есть такие кучи.
Подошел к Эдису, так и не понимая, отчего все плачут. Положил алый цветок ему на сердце, решив, что братишка все-таки не рассердится. Коснулся рукой его плеча и поцеловал в лоб. Он был холоден, словно растаявшая на ладони снежинка…
Моя рука лежала у него на плече, он был тут, со мной.
Подняли крышку гроба, процессия тронулась, я шел как во сне, и в голове у меня была единственная мысль: Эдис от меня на расстоянии нескольких шагов.
Подле ямы в желтом песке незнакомый человек опять произносил речь, и опять пели хором мужчины…
Открыли лицо Эдиса, он поглядел сомкнутыми веками в осеннее небо и на багрянец берез, на высокие облака, уплывавшие на юг вместе с клином курлычущих журавлей. Солнце осветило его лицо — оно сделалось еще бледней.
Гроб накрыли крышкой, четыре человека бережно опустили на длинных полотенцах черный ящик в яму, полотенца вытащили, глухо упали первые горстки песка, цветы, разобрали лопаты, и песок посыпался… в могилу.
И тогда сердце мое сломалось. Сломалось сердце. И это было страшно, так страшно, что проживи хоть миллион лет, этот страх, эту боль никогда не сможешь забыть.
Я понял, что братишку своего, Эда, никогда больше не увижу. Что я приду домой, буду сидеть подле теплой батареи, возможно, буду слушать Уайт Рум, его любимую песенку, но он никогда ее больше не услышит, он останется здесь, всеми покинутый, один в холоде и темноте, всегда один, и я был не в силах объять умом, как это мой брат, такой добрый и сильный, никогда не возьмет меня с собой на футбол, я не мог понять, как эго он больше никогда не треснет меня ласково по шее и не скажет: «Ну, маленький сыч, на завтра все уроки выучил…», — никогда в моей жизни, никогда!
Многие говорят: время лечит любые раны. Все это вранье! Время не залечивает любые раны. Верно, время затягивает их тонкой корочкой, но достаточно вспомнить, и рана сызнова кровоточит.
Мне рассказывали, что после того, как люди уже начали расходиться, я вдруг завыл волчонком, повалился на могильный холмик, раскидал венки и цветы и кричал сквозь слезы: «Эд, Эд, братишка, поедем завтра на рыбалку, червей я уже накопал, очень хорошие червяки, завтра будет замечательный клев, Эд, к твоей удочке я уже привязал наш самый лучший крючок. Во сколько мы, братишка, поедем, ты меня разбудишь, ладно, я же с таким трудом просыпаюсь, ты ведь знаешь…»
Меня подняли, но я все дергал руками, будто раскапываю песок, и лицо мое было в слезах и в земле. И мама, рассказывают, целовала мое грязное лицо, а я все выкрикивал что-то непонятное и рвался к могиле. И папа понес меня к такси на руках, и меня привезли домой.