Воспитание души
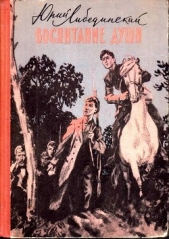
Воспитание души читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Скобелев перед домом генерал-губернатора кичливо вскинул саблю, а под ним, словно оспаривая его, громовым голосом выкрикивает какой-то солдат:
— Мир без аннексий и контрибуций!
А из толпы раздается:
— Долой! Долой!
— Правильно!
Возле Пушкина митинг, и возле Гоголя митинг… Порою люди сбиваются около каменной ограды, возле газетного киоска, а то прямо на перекрестке. Стоит начаться спору, как вокруг спорящих сразу же образуется толпа жадно слушающих людей.
Вся Россия заговорила, вся Россия хочет слушать, и чего только не наслушаешься здесь — вперемешку и церковная речь и марксистская формула. Вот лощеный господин с адвокатскими ораторскими приемами. А вот раненый в больничном халате выбрасывает вперед исхудалую руку.
— Штыки в землю! — хрипло кричит он, а господин призывает его к патриотизму и национальному единению…
Я ходил по центральным улицам, сворачивал вбок и вдруг попал в переулки, один другого милей. Небольшие домики с мезонинами и деревянными колоннами — начало девятнадцатого, восемнадцатый век. Пестро раскрашенные, словно игрушечные церкви, от них уже веяло допетровской стариной.
Помню, как шел я по Садовой на Кудринскую и вдруг услышал — поют петухи. Я свернул в ту сторону, попал в запущенный сад, прошел его, неожиданно вокруг меня все раздвинулось, большие дома исчезли, появились избы, усадьбы, перелески, пруды. Пели петухи, паслись коровы; роса лежала на кустах смородины и шиповника. И птицы пели вольно, как за городом, кувшинки плавали в прудах. А потом вдруг снова звон трамвая, еще несколько шагов — и шумный рынок. Влево — Зоологический сад и пруды с белыми и черными лебедями…
Я бродил по Москве, иногда один, а иногда со своим троюродным братцем, толстеньким Джеком, питерским гимназистом. Джек удивлял и забавлял меня своей способностью называть цену любого предмета. Древние ли вазы в витрине, памятник ли посередине площади, пара ли вороных в дышле, цилиндр, шелковый шарф и тросточки или подвенечное платье с букетом искусственных флердоранжей — он точно знал, что сколько стоит!
Джек приехал со своей матерью, двоюродной папиной сестрой, из Петербурга только ради того, чтобы повидаться с нами.
Втроем — петроградская тетка Аня, московская тетка Роза и отец, обнявшись, — ходили по большой, устланной ковром зале. Тетки называли отца какими-то смешными уменьшительными именами, вспоминали деда и плакали. Тетя Аня совала мне книги и конфеты. Большеглазая коротышка с кукольным лицом, она уже знала от отца, что я люблю стихи, и восклицала:
— Ах, Бальмонт! Ах, Блок! — но читала совсем другие стихи, не те, которые я любил. — Некрасов? — Она изумленно расширяла свои красивые фарфорово-голубые глаза и говорила певуче: — Разве это поэзия? Некрасов, Юрочка, вышел из моды! Поэзия должна шагать в ногу с современностью. Как это у Игоря Северянина?
Ее кукольное лицо оживлялось, хорошело, когда она своей короткой ручкой показывала, как это ассонансы рубнули рифму.
Хотя ее вкусы во многом озадачивали меня и я часто с ней не соглашался, но говорить и спорить с ней было легко и просто: она правда любила поэзию.
Отец, как и в первые дни революции, находился в приподнятом настроении. Проснувшись, он сразу же посылал меня за свежими газетами, прочитывал их все и за чаем обсуждал последние новости со мной и, конечно, со своими кузинами. Он ожидал от революции всего самого хорошего.
Тетя Аня не очень слушала его рассуждения, а тетя Роза молча хмурила свои густые темные брови. Но однажды, когда отец сказал что-то за обедом о великой бескровной революции, она вдруг возразила своим колючим голосом:
— Оставь, пожалуйста, из истории известно, что бескровных революций не бывает! Приходится только сожалеть, что у нас не нашлось какого-нибудь решительного генерала, который бы перестрелял в Питере всю эту чернь!
Она говорила с яростью, глаза ее потускнели от злобы, и мне даже показалось, что теткин тонкий красивый нос стал крючковатым.
«Руки коротки!» — подумал я. И вдруг отец — ему, конечно, тоже пришли на память эти слова — вслух повторил их:
— Руки коротки, дорогая Розочка! — ласково и насмешливо сказал он.
— Да, коротки, конечно, коротки! — пророкотала тетка. — Не раз мы еще пожалеем, что руки наши оказались коротки. Еще мы будем вспоминать обо всем этом… — Она показала на обеденный стол, на великолепный сервиз и столовое серебро, на душистый пар, который поднимался над супницей. — Ты говоришь, бескровная? А я говорю, еще будет кровь, очень много крови!
Отец с ней спорил, но даже на него эти мрачные прорицания произвели впечатление.
Когда мы поездом возвращались в Уфу, я передал отцу один свой разговор с Джеком. Джек уверял меня, что рабочие на Путиловском заводе зарабатывают восемь рублей в день.
«Двести сорок рублей в месяц, а? С осени я пойду работать на Путиловский завод, выгодно, а?» — говорил Джек.
— На Путиловский завод? — переспросил отец изумленно и сердито. — Да он в первый же час… — И отец грубо, образно выразил то, что будет с Джеком на заводе в первый же час. — Позарился на восемь рабочих рублей! А что в Питере не могут наладить снабжение хлебом, что питерские рабочие голодают, он об этом не рассказал тебе, буржуенок проклятый!
Я глядел на отца с изумлением. Это словечко было не из его лексикона.
Отец вздохнул и замолчал.
— Все-таки я скажу тебе, Юра, — доверительно проговорил он после долгого молчания, — классы есть классы, и ничего с этим не поделаешь… В этом марксисты правы, и об этом нельзя забывать. Это правда революции…
Первое 1-е Мая
Мы стоим на балконе большой, превращенной в военный госпиталь гостинице в Уфе; отец мой — начальник этого госпиталя, где весь медицинский персонал состоит из военнопленных врачей. А внизу, по главной улице города, вот уже два часа идет первомайская демонстрация Проходят под красными полотнищами железнодорожники, булочники, приказчики, маршируют стройные солдатские батальоны, пестрят платочками швейницы. И после «Смело, товарищи, в ногу» и «Варшавянки» снова и снова звучит лейтмотив демонстрации — гимн международной солидарности «Вставай, проклятьем заклейменный…»
— Интернационал, — говорит отец. — Самая высокая мечта человечества, мечта об осуществлении грядущего братства народов, о том, чтобы несть ни эллина, ни иудея… — И он сбрасывает слезу с глаз.
А улица опять возглашает новые, тогда, кажется, впервые услышанные мною слова гимна, который звучит в длинной улице, между высоких зданий ее, как в громовой трубе. И на всем протяжении демонстрации, видной нам сверху, колышутся красные знамена, и священные слова «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» шевелятся на них, словно наполненные живой силой.
— Как вы молоды, коллега, как вы все завидно молоды! — отвечает отцу австрийский военный врач, доктор Кнапп.
Сутуловатый и лысеющий, он стоит здесь же, рядом с нами, на балконе. Белый халат висит на нем, как на вешалке, и отец в военном кителе, облегающем его плотную фигуру, кажется симпатично кругленьким рядом с худощавым и высоким Кнаппом. Он моложе отца не меньше чем на десять лет, но они оба, хотя и в разное время, окончили Венский университет, и потому слово «коллега» — так они называют друг друга — звучит у них особенно сердечно.
Доктор Кнапп и годами младше и фигура у него моложавая, но длинные морщины на щеках и на лбу придают его бритому лицу выражение скепсиса. А румяное лицо отца с его седеющей бородкой общим выражением восторженности и размягченности кажется в сравнении с ним юношеским.
Разговор они ведут по-немецки, отец владеет этим языком, как русским, вот почему он и назначен начальником госпиталя, в котором работает около трех десятков врачей немцев и австрийцев.


























