Тень Жар-птицы
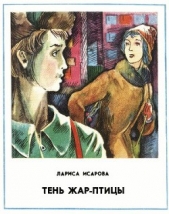
Тень Жар-птицы читать книгу онлайн
Повесть написана и форме дневника. Это раздумья человека 16–17 лет на пороге взрослой жизни. Писательница раскрывает перед нами мир старшеклассников: тут и ожидание любви, и споры о выборе профессии, о мужской чести и женской гордости, и противоречивые отношения с родителями.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Спекулируешь? — скривился я. Он не обиделся.
— Коммерция!
Он говорит, что мне можно не думать о тряпках из-за роста, а маленьким парням без них — зарез. Я промолчал. Дядя Гоша тоже только заграничные вещи носит, но он на свои покупает!
Наверное, я в отца пошел. Нам с ним без разницы, как что выглядит, лишь бы без дыр, меня даже неглаженность не смущает, могу в мятых-перемятых штанах щеголять; он, конечно, поаккуратнее, но я уверен, что наглаживается он ради матери. Будь его воля, мы бы на пару ходили, как уголовники, — выражение матери…
Что-то втягиваюсь я в эту писанину, самому смешно. Только неохота писать по датам, как девчонки. Вроде того, что «25 февраля у меня на носу вскочил прыщик». Или: «10 октября он посмотрел на меня и чихнул…» Так, наверное, пишут девицы вроде Рябцевой.
Я же решил записывать в эту тетрадь лишь глобальные события школьной жизни и собственной биографии… Да и новая учительница литературы сегодня вдруг сказала, что вести дневник — мобилизация мыслей. Мы заржали, а она добавила, что интересно писать даже многие ученые не умеют, нет навыка письменной речи, а раньше книги Сеченова, Прянишникова, Юдина, Ферсмана читались как роман. У них был стиль, ирония, логичность и красочность, а многие научные работы сегодня — занудство, даже в литературоведении.
Литераторша говорит, что многие «неэкономно пишут, неэлегантно, вода, многословие переходит в пустословие». Люди разучились писать из-за телефона, телеграмм. А дневник приучал к точности, умению замечать детали, разбираться в себе и в окружающих спокойно и разумно, раздумчиво. И прочла стихи Баратынского: «Мгновенье мне принадлежит, как я принадлежу мгновенью…»
Вот я и побаловался дневничком, пока сидел дома — и понравилось. Даже представляю днем, как приду к вечеру, сяду к столу и от всего отключусь.
Интересная тетка Марина Владимировна, никогда не знаешь, что она вдруг на уроке расскажет, на что отвлечется.
Приходила Антошка, навещала спасителя, так она матери заявила, и я не успел ее остановить. Мать губы поджала и фыркнула. Антошка ей не понравилась. Она принесла мне почитать новую зарубежную фантастику, строила из себя взрослую и, главное, отказалась пообедать с нами. А мать при чужих любит блеснуть кулинарными талантами… Короче, после ее ухода мать спрашивает так равнодушно:
— Что это еще за пигалица?
Я ей объяснил, что учится в нашем классе уже два месяца, иногда даже соображает, поговорить можно.
— Господи, да она в подметки Варьке Ветровой не годится!
Можно подумать — сильнее кошки зверя нет, лучше Варьки не бывает девчонок. Но мать к ней с первого класса неровно дышит.
Зато с Антошкой как с парном можно говорить, а с Варькой о чем?
Ей всегда чужие успехи покоя не дают. Прочтет в газете или по радио услышит о каком-то мероприятии в н-ской школе и начинает: «Ой, мальчики, давайте сделаем!», «Ах, мальчики, как интересно…»
В общем, мне повезло с предками, а у некоторых не дом, а мясорубка. Скандалы, войны холодные и нехолодные, как у Митьки. И чего людям не живется, только себе и другим нервы портят. Или это и правда как в лотерее? Один билет из тысячи со счастливым семейным вариантом?! Но у меня все будет тип-топ… Главное, не давать сесть на голову, девчонки это любят, даже самые умные. Уж на что Антошка и не девчонка, а сегодня заявила, что «мальчиков посещает только больных», что навестила меня «из чувства долга и благодарности».
Умора! На днях мы сидели на кухне, отец в ночь работал, мать так грустно мне и говорит: «Ничего ты мне не рассказываешь, совсем от меня отошел, а когда корью болел, за руку меня держал, не отпускал ни на минутку…»
Я почувствовал себя скотиной и начал что-то про школу говорить, а она меня перебила и спрашивает: «Кашу будешь есть?». Потом перебила снова, о ботинках вспомнила, испугалась, что я из них мог вырасти. Полезла в шкаф, потребовала, чтоб примерил. Вижу, совсем ей неинтересно, что со мной происходит. Только положено расспрашивать, вот она и попробовала. А я разлопушился, как дурак…
Правда, ногу она мне все шесть дней парила, соль в духовке в чулке грела, а потом прикладывала. Отец ее пуганул, что я могу хромым остаться, а сегодня заявила, что ради такой девчонки не стоило гробиться…
Отец не выдержал и прикрикнул:
— Не ради девчонки, а ради человека всегда стоит.
Звонил Митька, звал в компашку. А мне неохота. Одно и то же. Ланщиков, Петряков, Куров пьют, травят анекдотики, диски слушают, девчонки хихикают, вертятся, заигрывают — меня сразу спать тянет. Я вообще могу в летаргический сон впасть, когда много глупостей слышу…
Может, зря я дядьку не упросил, чтобы взял в партию после восьмого класса разнорабочим.
Вот Митька всегда что решит — выполняет, я же вроде Обломова. В мыслях уезжаю далеко, а на деле — пальцем шевельнуть неохота, плыву по течению, как бревно. Наверно, это у всех длинных. Наша литераторша назвала меня Ильей Муромцем, который тридцать лет и три года сидел на печи, все раскачивался на подвиги.
Да, у Антошки кожа на лице странная. Она возле окна сидела, а когда солнце включилось, ее лицо засветилось, как бабкина фарфоровая чашка, чем-то розовым… Смешная девчонка… И не может по классу пройти, чтобы что-то не обрушить. Уж на что я неуклюж, а прямо балерина рядом с ней. «Пол дрожит, земля трясется, это Глинская несется!» — спел Митька, когда она влетела и сбила с парт сразу три портфеля. А если за ручку двери или шкафа берется, ручка отлетает.
Сегодня после уроков неожиданно остался убирать класс. Глинская должна была дежурить, а Лисицын, с которым она сидит, заболел. Она попросила меня ей стулья и столы двигать. И домой потом пошли вместе. Тут ее молчаливость исчезла, она как затрещит — и о книжках, и о биологии, и о психологии, сама спрашивает, сама отвечает, прямо магнитофон. Хотел я ее портфель понести, а она его дернула, точно я его спереть могу, и шипит: «Не воображай, я не маленькая!»
Умора! Правда, она единственная из девчонок читала и Шекли, и Саймака, и Азимова. О фантастике с ней можно на равных болтать, лучше, чем с Митькой, а в жизни — дошкольница.
Митька потом предостерегал:
— Смотри, чтоб не втюрилась, такие с бесед о книжках начинают…
Наверное, прав. Девчонке только палец дай. От Рябцевой я весь прошлый год отвязаться не мог, а только разок позволил сдуть контрольную. Типичная белая моль. Сама толстая, а лицо плоское, глупое, как у куклы. И волосы белесые, жидкие, и все время к нам клеится. Она мне даже стихи написала дурацкие, я их почти наизусть на нервной почве запомнил.
Она мне их подсунула на алгебре, на контрольной, я чуть со смеху не лопнул, даже писать не мог. Мы с Митькой стихи эти стали петь на мотив «саратовских страданий».
Мать как-то, ругаясь, заявила, что меня в роддоме подменили: я никогда не из-за чего не переживаю, иду по жизни поплевывая, а она ко всему с сердцем относится, да и отец горячий. «А ты не горячий, не холодный, тепленький, как парное молоко…»
— Ну и что? Вот вы с отцом всю жизнь крутитесь, а многого достигли? Отец что положено не берет, зато прохиндеи цветут…
Мать закусила губу. Она отца раззявой часто ругает, но мне — нельзя.
— Не дай бог, чтобы наш отец стал прохиндеем…

























