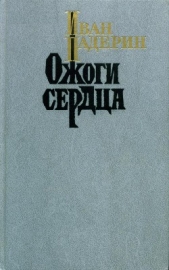Сердца первое волнение

Сердца первое волнение читать книгу онлайн
Школьная повесть о дружбе, о первой любви и первых обидах, о человеческих отношениях; о том, как важно не боятся признать свои ошибки и уметь прощать тех, кто нам дорог…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Видишь ли, мама, — отвечала Маргарита Михайловна, не подозревая, какую работу задала она маминой памяти, — мне пришлось быть свидетелем вот такой сцены…
В кабинете литературы у нас тонкой перегородкой отделена маленькая комнатка. Я провела урок и ушла в эту каморку; ребята уходили. Слышу голос Клары:
— Черемисин… минутку. Скажи… ты все еще сердишься на меня… за то?
— За что «за то»?
— За то, что я тогда в саду, когда вы с Надей целовались… пришла…
Я притихла. Я не могла не слушать. Клара говорила:
— Ты — молчишь. Ты ненавидишь меня, как и другие, я знаю, в связи с отношением к Марго. Может быть, в известной мере вы правы, я это еще не уяснила окончательно. Но сейчас я хочу не об этом…
— Теперь ребята не сердятся, — говорит он, — остывают… Степан говорил: не троньте ее, пусть сама обмозгует. Потребуется — поможем…
— Мне никто не поможет! — сказала Клара; знаешь, мама, как сказала? И с гордостью, и с болью! — Никто! Только один человек. Но он-то больше всех против меня. И меньше всех знает, что у меня в сердце.
— Сердце! У тебя нет сердца. Ты живешь головой.
— Неправда. Ты ничего не знаешь. Ты настолько увлекся Грудцевой, что…
Тут Клара замолкла и, как мне показалось, легонько всхлипнула. А Черемисин сказал:
— Между нами все кончено.
— И в этом вы будете обвинять меня?
— При чем тут ты? Мы… разные, — сказал он. — Я — бычок на веревочке!.. — Он рассмеялся. И вдруг как хлопнет рукой по парте: — Не хочу… Я найду в себе силы, годами буду переделывать себя, всю волю напрягу, а бычком — не хочу!..
— Что ж, это хорошо, — сказала Клара и замолчала. Потом проговорила:
— Знаешь, я хотела сказать тебе… Нет, не могу. Не буду… Зачем? Ты не поверишь. Это будет только смешно.
— Нет, почему, — сказал он. — Но это странно слышать. Говорят, ты всеми своими тайнами делишься только с отцом!
— Не смейся! — вскрикнула Клара. — Ты ничего не понимаешь. Что я тебе!.. — Она всхлипнула и ушла.
А он стоял, с недоумением смотрел вслед ей, кажется, стараясь понять все это.
Вот, мамочка, какие дела… Да ты ничего не ешь. Что с тобой? Кушай, кушай. Нет, погоди; ты… так расстроена?
— Клара… Бедная Клара! Это она!
— Ах, мама, мне тоже очень жалко ее. Но я не знаю, как ей помочь. Она не любит меня. Я пробовала говорить с ней. Односложные, сухие ответы — вот и все.
— Вот и я о ней думаю, — сказала Евдокия Назаровна. — И о ее папе и маме…
— Как? Ты их знаешь?.. И ничего мне не говорила?
— Рита, я же не знала, что это тебе нужно… Я не помню, чтобы ты называла ее фамилию.
— Расскажи, расскажи, мама.
— Я хорошо знала ее мать, Агнию Павловну. Милая, чуткая женщина, душевный, умный человек. Все, что она делала, и то, как делала, как разговаривала с людьми, даже то, как она одевалась и как причесывалась, скромно и красиво, — все было у нее просто, естественно. И, конечно, все это воспитывало девочку, развивало в ней и вкусы, и ум, и наклонности. И сердце. И вот именно против воспитания чувств, сердца решительно восстал Модест Григорьевич. Он требовал, чтобы воспитание было деловым, умственным. Мы, близкие знакомые, пробовали переубедить его, — ни в какую.
— А кто он?..
— Да как тебе сказать? Сын какого-то крупного чиновника из земской управы, человек крутого нрава, самолюб. Он и в наше время тяготеет к домостроевским порядкам в семье…
— Сколько же ему лет?
— Лет 55. Он стоял на своем. «На почве воспитания» у него с Агнией Павловной начались ссоры. Он взял Клару под свое влияние; она перестала признавать мать, уверенная в правоте отца. Как же, он всегда говорил, что действует в соответствии с законами морали, а вот мать — не так, как надо. Агния Павловна не отличалась особой твердостью характера, а Клара все меньше и меньше считалась с требованиями и просьбами матери. Тогда Агния Павловна решила уехать. И уехала к своему отцу, в Арск. Кажется, она ни разу не приезжала сюда.
— Почему же? — спросила Маргарита Михайловна. — Она что же, значит, не любит Клару?
— Нет, я думаю, наверно, потому, что… очень любит, очень. И увидеть дочь, которая не любит ее, было бы для нее невыносимо. Я видела, как Агния Павловна прощалась с дочерью… Какие-то она тогда сказала слова… Какие-то очень сердечные… Кларе было лет десять. Модест Григорьевич отнял ее от матери. Какие же это слова? Забыла… А они часто приходили мне на ум.
Евдокия Назаровна вздохнула, посидела немного и начала убирать со стола. Маргарита Михайловна долго сидела молча, выводя черенком вилки невидимые вензеля на клеенке. Старые часы говорили невнятно что-то свое; в окно смотрел густо-синий декабрьский вечер, на востоке подкрашенный алым светом всходившей луны.
— Да… Очень грустная история, — сказала Маргарита Михайловна. — Жаль, что ты не рассказала мне об этом раньше. Но теперь я знаю, чем я могу помочь Кларе.
В этот вечер пришла Надя Грудцева. Она вошла в запорошенной снегом шубке, в черной шапочке, с разрумяненными морозом щеками; раздеваться не хотела, потому что пришла только на минуточку, сказать два слова — и уйти. Но Евдокия Назаровна заставила ее раздеться; Надя сняла шубку, валенки и в одних чулках прошла в уже знакомую ей комнату. Маргарита Михайловна, забравшись с ногами на диван, читала стихи Льва Ошанина и к некоторым из них, импровизируя, сочиняла собственные мелодии.
Услышав голос Нади, Маргарита Михайловна пошла встретить ее, но Надя уже вошла в комнату и сразу начала каяться:
— Маргарита Михайловна, вы… я… в общем — вы простите меня… Это я разболтала все… что вы мне доверили…
Надя окинула взглядом комнату; все как было: портреты Чайковского, Горького, Макаренко; буря на море… Книжный шкаф, набитый битком. И во всем — особенный, умный порядок; и пахнет чем-то вкусным,
Маргарита Михайловна, с книжкой в руках, стояла у шкафа и не знала, что сказать. Чего-чего, а такого покаянного прихода этой строптивой, озорной воспитанницы своей она никак не ожидала и в глубине души примирилась с мыслью, что, вероятно, никогда уже не станет для нее близкой, как и для многих других. Они признали ее как учительницу — и все, большего, то есть их дружбы, она, наверное, и не сумеет завоевать. Ведь вот, например, ее попытка помирить Надю с Анатолием — кончилась провалом; а уж она ли не хотела им добра? И против стилистики до сих пор нет-нет да и раздадутся возгласы. Кое-кто и сейчас еще сердится на нее за то, что она выставила по литературе четвертные двойки. Что ж, пусть сердятся; иначе она не могла поступить, и завоевывать уважение путем снижения требований не будет.
Правда, сам класс стал дружнее. Но далеко не все еще радовало ее. Разлад между Надей, Кларой и Анатолием; угрюмость замкнувшейся Клары, поверхностность и мещанский душок Лоры — все это тревожило ее, заставляло думать, искать. Но найти она пока не могла ничего. Владимир Петрович уверял ее, что все будет хорошо, не такие уж они злые; Маргарита Михайловна в ответ безнадежно махала рукой. У нее резче обозначилась складка посередине лба; темные глаза смотрели вдумчивее. Она злилась, когда Владимир Петрович принимался подтрунивать над ее пессимизмом.
И вдруг — Надя!
— Маргарита Михайловна! У меня скверный, невозможный характер. Вы тогда хотели примирить нас… на террасе, когда спутник смотрели. Маргарита Михайловна! Я столько неприятностей наделала вам, а сама вовсе не хотела этого.
— Ну, полно, полно, Надя… Не нужно об этом.
Положив книжку, Маргарита Михайловна шла к Наде, и глаза ее были полны доброго, ласкового света.
— Ну, было, прошло, и я не хочу даже помнить.
Она прижала руки Нади к своей груди.
— Маргарита Михайловна… Я сказала ему, что между нами все кончено. Ему ведь тяжело, да? Вон какой он грустный ходит. Ну, мне жалко его, и все такое, но нет уже ничего прежнего… Ничего!
Синие глаза Нади стали влажными, ресницы опустились.
— Давай разберемся получше… Присядем.
Присели.
— Я еще рассказ написала, Маргарита Михайловна. Только, знаете, я теперь меньше думаю о писательской работе. Что-то плохо получается у меня, сама вижу. Другое дело — изучать язык художественных произведений. Меня и туда и сюда тянет… Я принесла рассказ, вы почитайте. Там и о раздумье моем — всё есть. Вы только никому, никому не говорите, ладно?