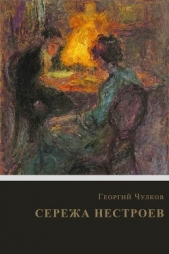Собрание сочинений в четырех томах. Том 2. (выборочно)

Собрание сочинений в четырех томах. Том 2. (выборочно) читать книгу онлайн
Во второй том Собрания сочинений входят рассказы, сказки, стихи В. Осеевой, а также 3-я книга повести «Васек Трубачев и его товарищи».
Иллюстрации - Дунаева И., Фитингоф Г.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Собака не приходила. Два дня ждал ее Кочерыжка, глядя на огонек, светившийся через дорогу. Теперь оттуда часто доносился хриплый, сердитый лай. Слышно было, как пес кидался к забору и до конца улицы провожал идущих мимо отрывистым лаем. Он сторожил свой дом. Ночью никто уже не слышал его жалобного воя и не грозил заткнуть ему глотку дубиной. Из разговоров соседей Кочерыжка знал, что в домик Самохиных вернулась одна старуха — Марья. Власьевна… Бабка Маркевна, никуда не уезжавшая во время войны, считала себя хозяйкой опустевшего поселка с заколоченными домиками. Ей казалось, что именно она, оставаясь здесь, под немецкими бомбами, уберегла от разрушения весь поселок. И как хозяйка встречала она всех возвращающихся, приветливо и жалостно, не скупясь ни на сочувствие, ни на вязанку дров для захолодавших людей. Первая являлась она к семьям, еще не обогревшим пустые углы, и, прислонившись к косяку двери, зябко кутаясь в клетчатую шаль, говорила:
— Ну вот, слава те господи! Вернулись! На родном пороге не обобьешь ноги!
И тут же зорко примечала она чьи-то заплаканные глаза, горестно покачивала головой, кляла душегубов-фашистов, вытирала концом платка слезы и утешала:
— Что делать, милушка, война… Уж теперь не вернешь и сама в могилку не полезешь. Скрепи сердце, как ни есть… Небось не одна поплачешь, люди с тобой поплачут и над твоим и над своим горем… Все вместе, легче будет…
Серенькое, востренькое лицо ее, теплые руки с темными жилками, слезы и сочувствие успокаивали. Не одна осиротевшая женщина выплакала свое горе вместе с Маркевной. Поплакав, бабка Маркевна деловито распоряжалась:
— Печку-то спробуй — не дымит ли? Да пойдем ко мне: дровишек сухоньких дам или кипяточку отолью.
Бабка Маркевна жила одна, но с утра до вечера у нее толокся народ — женщины, ребятишки. Каждому что-то было нужно. Иногда на широкой лавке под печкой сидел у бабки чей-нибудь закутанный ребенок, и бабка, придя со двора, говорила:
— Ишь бог послал… Чей же это? Сафроновых али Журкиных? — И сама себе отвечала: — Небось Журкиных… Она нынче к снохе в город уехала…
Погремев в печи заслонкой, Маркевна вытаскивала горячую картофелину, дула на нее, перебрасывая с ладони на ладонь, и подносила ребенку:
— На-кось… Погрей ручки да скушай!
Теперь бабка Маркевна часто сидела у Петровны и, указывая на домик Самохиной, с обидой говорила:
— Я к ней, а она от меня… я во двор, а она в дом… Вижу, лица на ней нет.
— Да-да, — подтверждала Петровна, — чуждается она людей… а бывало, как работала библиотекаршей на заводе, от одних ребят отбою не было, сама всех привечала.
Маркевна освобождала от шали востренький подбородок и шумно сморкалась.
— Всхожу это я в сени, а у самой сердце не на месте… И ее жалко, и навязываться тошно… Только думаю себе: горе-то что петля на шее, если некому растянуть ее, она всего человека захлестнет. — Маркевна оглянулась на Кочерыжку и вдруг зашептала: — Ведь одна-одинехонька вернулась. Игде невестка, игде внучка ейная. Все небось в земле сырой похоронено. Как не бывало да не было. И сама-то вся рваная, пальтишко худенькое…
— О-хо-хо… — подперев щеку рукой, вздыхала Петровна. — Ведь полным домком жил человек! Да где же это она всех растеряла-то?
Но Маркевна уже снова перешла от сочувствия к обиде:
— Да разве в ней человецкая душа осталась? Голубушка, говорю, милая ты моя, одна, что ли, в свой домик возвернулась? А она это как глянет на меня, руками за стол схватилась да как крикнет: «Не спрашивай!» Батюшки мои! Ровно я ей в сердце иголку всадила… — Маркевна закрылась платком и заплакала.
Петровна мельком взглянула на Кочерыжку. Лицо у него было серое, губы дрожали, в глазах стоял испуг.
— Уйди ты отсюда! Что за ребенок такой?! — рассерженно крикнула Петровна и, схватив Кочерыжку за руку, вытащила его в кухню. — Ступай оденься, погуляй хоть с ребятами! — Она бросила ему шинельку и платок. — Ступай, ступай! Вот всегда эдак-то: прилипнет к лавке и сидит на нервы действует, — объясняла она бабке Маркевне, возвращаясь в комнату.
Кочерыжка нерешительно потоптался в кухне, взял с плиты печеную картофелину, надел шинельку, вышел на двор и побрел на собачий лай. Ему хотелось взглянуть на собаку, которая уже два дня не приходила к погребу. Но ему было страшно, что на крыльце Самохиных вдруг появится та женщина и закричит на него, как на бабку Маркевну. Во дворе никого не было. Не отрывая глаз от закрытой двери, Кочерыжка долго стоял у забора, потом храбро направился к калитке.
Марья Власьевна сидела одна у холодной печки. Около нее валялась сломанная табуретка и секач. Скрип двери, серая шинелька и протянутая ладошка с печеной картофелиной испугали ее. Она откинула со лба седые волосы и, зажмурившись, сказала:
— Боже мой, что это?
— Собаке… — дрожащим голосом прошептал Кочерыжка, не сводя с нее глаз.
Марья Власьевна глубоко вздохнула.
— Волчок!
Со двора вбежала собака, шумно обнюхала мальчика и, виляя хвостом, остановилась рядом с ним. Марья Власьевна молча смотрела, как Кочерыжка кормил собаку. Потом она заглянула в печь и чиркнула спичкой. Спичка погасла. Она снова чиркнула. Кочерыжка подобрал с полу тоненькие щепочки и положил их перед ней. Потом обнял за шею собаку и удивленно сказал:
— Я ее не боюсь.
В печке затрещали сухие доски. Мальчик осторожно присел на корточки и протянул к огоньку красные руки.
— Чей ты? — тихо, с напряженным вниманием вглядываясь в его лицо, спросила Марья Власьевна.
— Васи Воронова. Я Кочерыжка, — робко сказал он и, заметив на ее губах слабую улыбку, стал рассказывать свою историю.
Он делал это совсем так, как Петровна, подперев рукой щеку и раскачиваясь из стороны в сторону. Марья Власьевна слушала его с удивлением и жалостью. Прощаясь, Кочерыжка сказал:
— Я к тебе и завтра приду.
По дороге его переняла Граня. Размахивая концами платка, она сердито потащила его к дому:
— Ходит не знай где! Весь в снегу извалялся! Настоящий Кочерыжка!
От усталости, сердитого голоса Грани и всего пережитого за этот день Кочерыжка сел на снег и заплакал.
Самохина сторонилась соседей. Она часами сидела одна, опустив на колени руки. Ее память с болезненной точностью рисовала ей то одно, то другое… Разбросанные в беспорядке вещи напоминали ей сборы в дорогу и залитое слезами лицо ее невестки Маши. Слезы свои Маша объясняла по-разному, невпопад: то нежеланием расстаться с насиженным углом, то боязнью перед незнакомой дорогой. Марья Власьевна не знала тогда, что Маша скрывает от нее смерть сына, что она одна переживает свое тяжелое горе, щадя старуху мать. Марья Власьевна вспоминает, как она сердилась на нее за эти слезы, как в последнюю ночь сборов, выйдя из терпения, она сурово прикрикнула на невестку: «Перестань! Возьми себя в руки! Стыдно! Люди близких теряют…»
Мысли Марьи Власьевны перескакивают. Она видит длинный эшелон, набитый женщинами и детьми. Она сидит между своими и чужими узлами, затиснутая в угол теплушки; потная головенка внучки, прикрытая ее широкой ладонью, прижимается к груди. В полумраке большие заплаканные глаза Маши. А потом бомбежка и глухой полустанок, где она, Марья Власьевна, металась между разбитыми вагонами, не выпуская из рук круглого синего чайника и бессмысленно объясняя кому-то с остановившимися от ужаса глазами: «За горяченьким пошла… за горяченьким…»
А из-под обломков люди вытаскивали что-то страшное, бесформенное, в чем уже нельзя было узнать ни внучки, ни Маши. Кто-то отнимал у нее залитый кровью капор, кто-то совал ей в руки узелок и вел ее за носилками, покрытыми серым брезентом… Затерянная на этом полустанке, одна среди чужих людей, она случайно развязала Машин узелок и там нашла карточку сына вместе с его письмами к жене. Рядом с карточкой лежала серая бумажка, где сообщалось о славной смерти честного бойца Андрея Самохина… Лицо сына было радостное и удивленное, как будто он сам не верил в это сообщение о его смерти. Марья Власьевна стискивала руки, обводила глазами пустые углы и шептала без слез: