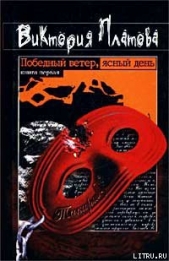На краю земли

На краю земли читать книгу онлайн
Кто из вас не мечтает о великих открытиях, которые могли бы удивить мир? О них мечтали и герои повести "Ha краю земли" - четверо друзей из далекого алтайского села.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пашка, пораженный преображением Ивана Потаповича, открыв рот, смотрит на него во все глаза.
— Ты, брат, не веялка. Закрой, а то ворона залетит, — говорит Иван Потапович и легонько подталкивает его челюсть снизу.
Зубы Пашки звонко щелкают, и все смеются: не над Павлом, конечно, а просто потому, что всем очень весело и смеяться готовы всему — так радостно на душе у каждого.
Мы возим к току снопы, а потом поступаем под начало к деду Савве, мечущему стог. Он мечет его и мечется сам по огромному стоговищу, покрикивая на нас, чтобы правильно укладывали и утаптывали, переделывает по–своему и успевает подгонять Пашку и Фимку, взбрасывающих наверх солому. От молотилки через стог переброшены тросы, за стогом к ним подпряжены лошади, и, когда у молотилки накапливается ворох соломы, Пашка и Фимка, сидящие верхами, гонят лошадей, и солома, подхваченная тросами, взъезжает наверх…
Метать стог трудно. Попробуйте–ка потаскать тяжелые вороха, когда ноги тонут в еще не утоптанной соломе, уложить их правильно и плотно, чтобы потом стог не разъехался в разные стороны! Солома душно отдает хлебом и зноем, пот заливает глаза, остьём усыпано тело, и оно нестерпимо зудит, но все это нипочем. Мы с таким азартом таскаем — даже не шагом, а бегом — вороха соломы, так скоро растет наш стог, что где там замечать пустяковые неприятности!
Мама попеняла мне, что я не хожу ночевать в деревню, совсем от дому отбился, но отец вступился за меня:
— Ничего, мать, дом от него не уйдет. От дому отбился, к народу прибился. Без этого человек — не человек. И пусть привыкает хлеб не только с сахаром, а и с солью есть, цену ему узнает…
Так я до конца уборки и жил вместе с отцом на стану.
Геннадий и Лепехин добились своего: их лобогрейка обогнала Васькину. Правда, не намного, всего на четверть гектара, но все–таки они молодцы, не осрамились!
Когда хлеба намолотили несколько тонн, Анисим Семенович, Пашкин отец, пригнал из Тыжи подводы для обоза с хлебосдачей. Для такого случая он запряг даже Голубчика и сам им правил. Пашкин отец, наверно, самый сильный у нас в деревне — только он может справиться с Голубчиком, огромным четырехлетним жеребцом, гордостью нашей фермы. На войне Анисим Семенович был в артиллерии и тоже при конях, а вернулся с войны и опять стал работать на ферме, вернее — на пастбищах, потому что старается все время держать скот на воздухе, а не в стойлах. Он говорит, что так здоровее и полезнее. Оттого, что он сам все время на ветру и на солнце, кожа у него красная, будто дубленая, а волосы, и без того светлые, выгорели совсем, и кажется, что он седой, хотя ему не так уж много лет. Пашка весь в отца — белобрысый, словно у него не волосы, а отбеленная кудель, и такой же медлительный и рассудительный, хотя я думаю, что рассудительным Пашка становится только тогда, когда чего–нибудь побаивается.
Так как обе бригады на жатве работали хорошо, Иван Потапович сказал, что с обозом поедут и Генька и Васька. Мы признали, что это справедливо.
Обоз повел Иван Потапович. На первой подводе укрепили красный флаг, под ним устроились Федор Рябых со своим баяном и Генька, правивший лошадью. Васька и Лепехин ехали на второй, остальные сели кому как пришлось. Иван Потапович подал команду. Федор сдвинул на затылок кепку и развернул мехи баяна. Подпрыгивая на камнях, подводы тронулись под разудалый марш.
Мы проводили их до Тыжи. Я смотрел на телеги, в которых лежали укрытые брезентом мешки, но виделись мне не серые мешки и брезент, а золотая струя, бьющая из молотилки. Ведь не только у нас, а везде, по всей стране грохочут сейчас барабаны молотилок и комбайнов и льется неиссякаемый золотой поток, заливает землю, несет людям радость и силу…
НЕФЁДОВА ЗАИМКА
Пашка тоже уехал. Анисим Семенович, приезжавший с пастбища, куда перегнали стадо, забрал его с собой, так как скоро скот должны были гнать обратно. Туда же забрали Фимку и Сеньку. Мы с Катеринкой остались чуть ли не одни.
Захар Васильевич совсем стал слаб ногами и говорил, что уже не сможет пойти на промысел. Однако в тайгу, к зверью, его тянуло, и он часто приходил на Катеринкин двор посмотреть Найду.
Найда подросла, стала настоящей красавицей — большеглазая, тонконогая — и такой умницей, что всех узнавала и шла навстречу: знала, что ей обязательно припасли посоленный ломоть хлеба.
Захар Васильевич как–то сказал, что ему надо ехать на пасеку: проведать Нефёда, отвезти припасы да забрать мед, которого дед, наверно, много накачал. Мы упросили его взять нас с собой.
Мы с Катеринкой решили, что поедем не просто так, погулять, а это будет наша вторая экспедиция, и нужно ее провести по–научному. Я приготовил дневник, попросил у отца сумку с компасом, на всякий случай прихватил свой мешок, хотя ехать недалеко и запасаться нужды не было.
Из дому я улизнул еще на рассвете, разбудил Катеринку, и мы побежали к Захару Васильевичу. Тот запрягал Грозного.
Грозный — это соловый мерин с жидкой гривой. Левого глаза у него нет, и на ходу он всегда сбивается в правую сторону. Кличка «Грозный» к нему никак не подходит, называть его следовало бы «Лукавый»: подпряженный в пару, он норовит идти коротким шагом, не натягивая постромки, а только делая вид, что тянет изо всех сил. Хитрость довольно прозрачная, и он, должно быть, сам это понимает, потому что стоит его тронуть вожжами, как он перестает притворяться и тянет по–настоящему.
Захар Васильевич сует в передок под сено топор, моток веревок, сверху расстилает брезент, и мы усаживаемся. Проехав деревню, сворачиваем к северу, на согру. Солнце еще не поднялось, только на макушках гор пламенеют озаренные им кедры. Трава на согре седая от росы; лишь там, где прошли колеса, вспыхивают полосы яркой зелени.
Одноглазый Грозный не обходит кустов тальника, и, задетые осью, они обдают нас холодными брызгами. Катеринка каждый раз тихонько ойкает. Скоро мы становимся мокрыми, будто побывали под дождем, но настроение у нас не портится — солнце поднимается, и мы скоро обсохнем. Только Захар Васильевич каждый раз морщится и начинает ругать Грозного. Тот, словно поддакивая, мотает головой и все–таки опять идет вплотную к кустам.
Шумливая речушка пересекает наш путь; скрежеща на камнях, колеса по ступицу погружаются в воду; вода сердито и звонко курлычет между спицами.
Становится тепло, согра сразу зеленеет. Катеринка соскакивает с телеги и бежит собирать цветы. Трава еще росистая, и из–под Катеринкиных ног взлетают сверкающие брызги. Набрав большой букет, она рвет траву и на ходу подносит ее Грозному. Тот вытягивает морду, но вместо травы вдруг выхватывает из букета самую середину, Катеринка хохочет, делает ему выговор, а потом скармливает весь букет.
По пологому увалу, среди густо разросшегося багульника, змеится еле заметная колея. Мы сворачиваем на нее, но она скоро исчезает, и теперь уже только Захар Васильевич да, может быть, Грозный знают, почему мы едем именно так, а не иначе и сворачиваем в ту, а не в другую сторону. Никакие азимуты здесь не помогут. Путь вьется по косогору, то пересекая лужайки, то забираясь в чащу. Здесь уже нельзя сидеть свесив ноги: того и гляди, их защемит между грядкой телеги и деревом. Потревоженные дугой ветви больно хлещут по лицу.
Мы снова съезжаем на мягкую кочковатую согру, всю изрезанную не то канавами, не то руслами ручейков. Русла заросли тальником и бузиной, внизу поблескивает вода, и Грозный с трудом вытаскивает ноги из чавкающей под копытами болотины. В отдалении виднеются два стожка сена — его вывезут отсюда зимой по насту.
Подъехав к стожкам, Захар Васильевич распряг Грозного и отпустил пастись, а сам забрался от припекающего солнца под телегу. Я попробовал было сделать описание маршрута, но ничего не получилось: в памяти шло непрерывное мелькание зарослей и поворотов, спусков и подъемов. Катеринку сморило от солнца и усталости, она прилегла на брезенте и тоже заснула. Свернувшаяся калачиком, она кажется совсем маленькой, слабой, и мне почему–то становится жалко ее. Я прикрываю ей голову платком, чтобы не напекло.