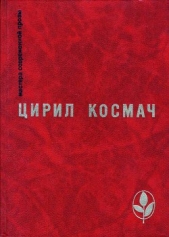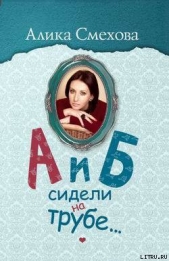А и Б сидели на трубе
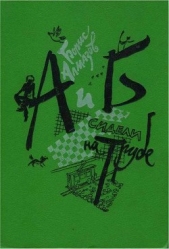
А и Б сидели на трубе читать книгу онлайн
В книгу ленинградского писателя вошли весёлые и поучительные рассказы, воспоминания и повесть о не совсем обыкновенной собаке.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда её вывели из кузницы, напоили, привязали к телеге, где был ячмень с овсом, и она стала им жадно хрупать, я подошёл к ней, благо возница увёл ковать вторую лошадь, и тихонько погладил по задней ноге и по животу — выше я достать не мог.
И тут лошадь ударила меня новенькой подковой! Прямо в грудь! Когда я вырос, то понял, что лошадь была старая, умная и только тихо оттолкнула меня. Ударь она как следует, мне бы не писать этой книжки. Но тогда я задохнулся от боли и обиды. Наплевавшись вдоволь розовой слюной, я побрёл домой, дав себе слово никогда больше не подходить к этому неблагодарному «зверю». Но слово своё я скоро нарушил.
Зиму мы жили в Ленинграде, а весной двинулись на Дон. Время было тяжёлое, послевоенное: вокзалы набиты людьми, купить билеты, сесть в поезд, доехать необворованными — подвиг и везение. И вот после толкотни, истерик в толпе, давки и духоты в вагонах мы выходили на тихой станции и сразу окунались в ласковые объятия степного тепла… И дед Хрисанф, тот, что сажал меня на коня, отдавал нам честь, приложив левую руку к алому околышу старой казачьей фуражки. Правой руки у него не было: оторвало в гражданскую, поэтому казалось, что дед всё время ходил боком.
Скрипели колёса тачанки. Под впечатлением того, что мы приехали из Ленинграда, из Питера, дед запевал сипловатым, когда-то лихим и сильным голосом: «Как в столице, в Петербурге, ай-да ну и в Зимнем каменном дворце, там при каждом при покое караул донцы несуть…» Пел он замечательно, да ещё свистел в конце каждого куплета, а мама, скинув на плечи кружевной платок, подпевала ему просторным низким голосом, каким никогда не пела в городе. И я видел, какая она у меня красивая… И даже седина её не портит, как не портит изморозь степную траву. «Е-е-е-их, да там при каждом, ну ай скажем, что ли, при покое-е-е-е ай, стоять казаки на часах…» — выводил дед умопомрачительной сложности мелодию. А дальше в песне говорилось, как «царица Катерина выходила погулять», как она увидала «молодого кавалера, при дворцовых при дверях». И был он такой бравый, статный да пригожий и так стоял не шелохнувшись, что царица остановилась и спросила: «Из какого, казак, войска, из станицы из какой?» Но казак устав помнил твёрдо. «Ничего ей не ответил, потому как службу знал, ничего ей не ответил, даже глазом не сморгнул!» И тогда царица, тоже, вероятно, вспомнив устав караульной службы, «положила к ногам его медаль»…
Дед пел, а мне казалось, что он это про себя, что это он, статный урядник лейб-гвардии казачьего полка, в алом мундире, в высоком кивере с плюмажем и шлыком стоит в сверкающей зеркалами и золотом роскошной дворцовой зале…
Вокруг нас медленно поворачивалась весенняя степь. Сочно-зелёная до синевы с белым налётом пшеница сменялась голубыми овсами, а неудобья по увалам плавно качали волны ковыля, были исполосованы ярко-алыми маковыми реками. Они, как сказочные дороги, политые кровью сынов Тихого Дона, убегали за горизонт, а там уже выплывал багрово-оранжевый край солнца.
И вдруг в это весеннее великолепие из-за холма вылетели два коня. Один — снежно-белый, другой — гнедой. На них не было никакой сбруи, они шли широким, но неслышным галопом, точно были крылаты. Лепестки алых маков облаком взлетали из-под их копыт и, плавно кружась, оседали на фоне ослепительно синего беспредельно глубокого неба.
И я понял, что живу! И меня охватило такое ощущение свободы и счастья, что я тоже запел во всю силу голосовых связок…
И уже тогда я почувствовал, что никогда не забыть мне этот вольный бег коней и эту степь, потому что это самое дорогое, что есть у человека, — Родина. И уже тогда я знал: если не суждено мне будет жить на этой прекрасной земле моих прадедов и если она изменится неузнаваемо, застроенная городами, дорогами и фабриками, — во мне она будет неизменна. И постоянна, как биение сердца… Пока я живу…
…А кони всё скакали… скакали… вздымая росные клубы алых лепестков… Скакали, уплывая в мои сны.
Много лет прошло с тех пор, а я всё помню. Да не только помню… Каждое лето — кто куда, а я — на дальний и незаметный степной хутор: и в уборочную помочь — в страду каждые руки на счету, и солнышком родным пожариться, да и так — пожить между своими близкими людьми, отогреть душу и сердце. Я люблю их и горжусь ими. Превыше всех наград ценю, что и меня они считают роднёй, своим земляком-хуторянином. Я — это они, а они — это я. А вот какие мы? Про то эти рассказы.
Лягушонок
Пристрастился Тимоша Есаулов строгать. Ещё весной попала ему в руки чурка, на корабль похожая. Он кухонным ножом подровнял её немного, мачты приладил — получилась каравелла, совсем как та, на которой Колумб Америку открыл.
Показал Тимоша каравеллу деду Аггею. Дед всегда у своего дома на завалинке сидит, корзины плетёт. Он в войну у фашистов в плену был, так его искалечили: ноги у него отнялись, не ходят. Вот он и сидит — корзины плетёт.
Дед Тимошкину каравеллу похвалил:
— Чистая работа. Одно слово — модель!
С того дня Тимоша всё строгал да строгал. Коня выстрогал. Собаку. Домик по брёвнышку сложил, столярным клеем склеил. Крыша тесовая, ставни и двери на петлях, открываются.
Попала ему в руки книжка про корабли, так он стал по картинкам разные суда вырезать. Целая флотилия уже на окне стоит.
Утром идут хуторяне в поле и смотрят: что Тимоша нового выстругал? Все Тимошины изделия на окне дедова дома стоят, а дед прохожим пояснения даёт.
Одна беда: не хватает инструмента у Тимоши. Рубанок, правда, есть, плоховатый, буравов пара, а вот ножа хорошего нет. Кухонный за два месяца сточился почти весь, да и ручка у него неудобная, мозоли набивает. Вот у Антипа, сына деда Аггея, нож так нож! Антип слесарем в мастерских работает и нож этот сам сделал, там и лезвия лучшей стали, и подпилки, и буравчики, и шило, и ножницы! Таким ножом не то что корабли — кружева вырезать можно. А главное — ручка удобная, ухватистая, не то что у магазинных ножей.
Ну да ничего! У Тимоши и кухонным ножом получается неплохо. Валька Кудинов вон как к Тимоше пристаёт: «Давай меняться! Давай меняться!» Уж чего он за эти корабли не сулил: даже радиоприёмник на батарейках обещал.
— На что тебе, Валёк, корабли-то эти? — спросил Тимоша.
— В Москву на выставку пошлю! — сказал Валька. — Мне за них грамоту дадут.
— Да ведь не ты ж их вырезал! — сказал дед.
— Ну и что?
— Горазд ты на чужом горбу в рай скакать! — ответил дед и больше с Валькой не разговаривал.
Только плести стал быстрее да руки у него так затряслись, что несколько пруточков сломалось. Тимоша знает: как у деда начнут в пальцах лозины ломаться — значит, расстроился он.
— Ты, дедуня, не сомневайся! — сказал Тимоша. — Я с Валькой меняться не стану. Лучше вон детишкам маленьким раздам — пускай в пруду балуются с ними.
Но только расставаться с кораблями Тимоше было немножко жалко, да и не вся флотилия ещё изготовлена.
Вот сидят они с дедом на завалинке, в тени. Разговаривают о том о сём, а Тимоша корму у фрегата выстругивает.
Ослепительно сияет белая пыльная дорога. Тихо в хуторе. Жарко. Только подсолнухи тянутся к солнцу, да маленькие мальчишки, сидя в колеях, сыплют пыль на свои бритые макушки. Кто больше холм насыплет — тот и победит. Того из конца в конец улицы все по очереди будут на закорках носить. Тимошка уже в эту игру не играет. Вырос.

Вдруг к мальчишкам Каська Мотнёв подбежал. Руками замахал, зовёт куда-то, показывает что-то. Каська — самый суматошный мальчишка на хуторе. Недаром у него прозвище — Звонарь. Он все новости, все слухи первым узнаёт и по всему хутору разносит.
— Ну-ко, Тимофей, поглянь, кудай-то они? Не наделали бы пожару.
Тимоша положил нож и кинулся искать мальчишек. Он пробежал переулком и за Кудиновым куренём увидел сгрудившихся пацанов. Они что-то рассматривали, ахали и махали руками.