Я хочу жить
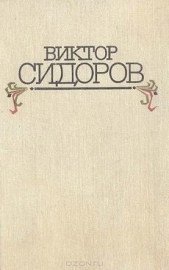
Я хочу жить читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Слушаю сводки, и в груди тесно от обиды. Порой даже плакать хочется…
У меня часто бывает такое чувство: вот если бы я был на фронте, то там обязательно все по-другому пошло.
Глупо, конечно, но думаю.
Эх, изобрести бы такое оружие, чтобы как огнем выжгло всех фашистов на нашей земле, чтобы как ветром вымело их.
Запись семнадцатая
Получил записку от Лены. Настойчивая! Добилась своего: медсовет разрешил нам работать для фронта. Уже достали много мотков шерстяных ниток, и девчонки во всю вяжут рукавицы, перчатки и носки. Однако ребят эта новость не очень обрадовала.
Клепиков давился смехом.
— Папа, ты когда начнешь вязать носки, а?.. Ты спицами или крючком?
Пашка Шиман нервно дергал плечами:
— Как раз мне этого не хватало — вязать! Если бы нам поручили сборку оружия, наганов, например, — другое дело, а то вязать…
Фимочка еще подлил масла в огонь.
— Конечно, Паша. Тем более, ты поэт. Лучше словом бей фашистов.
— Дурак! — разозлился Шиман. — Что, разве словом не бьют? Маяковский говорил: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо».
Фимочка прямо-таки в восторг пришел от Пашкиных слов: в ладоши захлопал, даже поклониться ему ухитрился.
— Я всегда говорил: Папа Шиман — великий поэт. Только из-за его скромности фашисты долезли до Смоленска. Теперь Папа приравнял перо к штыку! Теперь — берегись враг! Папа воткнет ему перо куда следует.
Ребята развеселились. Больше всех Клепиков. Он пел громким, противным голосом: «Носочки повяжем, попишем стишки…» И, как всегда, оглушительно хохотал.
Пашка никого не удостоил ответом. Неторопливо залез с головой под простыню.
— Шиман уединяется для творчества, — комментировал Фимочка.
Пашкина голова на минуту показалась из-под простыни.
— Ничего не поделаешь, — сказал он. — Когда я вижу ваши рожи, ко мне приходят мысли плоские, как клепиковский лоб.
Запись восемнадцатая
Притопала в гости Зойка, на своих на двоих. Худющая, длинная, побледневшая, совсем не такая, какой я привык видеть ее. Только глаза все те же: быстрые, озорные, острые.
Мы все наперебой:
— Ну как, Зоя? Не больно? Не трудно? Как себя чувствуешь?
Зойка улыбалась, вертела головой то в одну, то в другую сторону.
— Ой, мальчики, я такая счастливая, такая счастливая… Сколько дней прошло, а я все никак не могу поверить, что хожу, что скоро домой… Уже пятнадцать минут разрешают ходить. На пляже была, в море ноги помочила…
И рассказывала, рассказывала о том, как удивительно это — ходить. Такое впечатление, что до этого она никогда не ходила — так отвыкла. В первые дни очень болели мышцы, особенно на ногах и спине, даже перепугалась — думала обострение. Теперь боли поменьше. Но это все чепуха. Все пройдет, кроме радости. Но самым удивительным оказалось то, что все вокруг сейчас выглядит иначе, даже люди. Они вдруг стали меньше и как-то попроще… А у худрука Жоры на макушке оказалась плешь, маленькая, как медалька, и блестит…
Мы слушали Зойкин рассказ, как самую интересную, захватывающую сказку.
Зойка обернулась, взглянула на большие стенные часы, ойкнула:
— У меня одна минутка осталась. Пойду.
Но не уходила, перевела взгляд на меня, нерешительно улыбнулась.
— Мне бы надо поговорить с тобой, Саша.
Сказала и покраснела. Черт побери: Зойка покраснела! Это просто непостижимо.
У Пашки от удивления и обиды лицо вытянулось, а Клепиков хохотнул глупо.
— Давайте, калякайте, а мы под простыни спрячемся, чтобы не мешать.
Зойка засмеялась:
— Ладно, потом как-нибудь… Ох, и попадет мне от Ольги Федоровны! Еще и врачу пожалуется. И медленно пошла вдоль веранды. О чем хотела Зойка поговорить со мной?
Запись девятнадцатая
Уже больше месяца идет война. Сегодня — 29 июля. Фашисты лезут и лезут вперед по всему фронту. Они совершили несколько воздушных налетов на Москву, но наши им крепко всыпали — ни разу не дали прорваться в город.
Тревожно, беспокойно у нас. Все будто ждут чего-то страшного. Несколько нянечек и санитарка тетя Даша уволились. Мы слышали, как эта тетя Даша сказала Сюське:
— Надо в деревню подаваться. В городах — оно опасно: бомбят, да и сражения эти уличные… А война, слышно, вот-вот сюда прикатится.
Сюська кивал:
— Да, да… Надо подумать…
Куда делись его профессорская важность и вечная ухмылка.
Фимочка сразу в панику:
— Пропадем мы тут, ребята. Об эвакуации никто ни слова, еда все хуже и хуже, персонал разбегается. Вдруг так и не увезут нас, а фашисты придут?
Ребята молчали. Только Ленька бросил коротко и сердито:
— Заныл!.. Не пропадешь, не бойся.
Ванька сегодня от обеда два куска хлеба оставил — на дорогу. Бежать решил окончательно и бесповоротно. Он стал молчаливый, угрюмый — слова не вытащишь. Переживает: фашист идет к его дому. Целыми днями он массажирует здоровую ногу, чтобы хоть немного окрепли мышцы. А по ночам, когда нет поблизости дежурной сестры, ходит возле койки — тренируется.
Я было заикнулся, что без денег и еды он далеко не уедет. До его деревни с тысячу километров будет, а то и побольше.
Ванька нетерпеливо махнул рукой.
— Ерунда. Мне бы только до Москвы добраться, а там я, считай, дома: можно и пехом дойти.
Вчера вечером я глянул случайно на Ваньку, а у него глаза красные. Спросил его: что случилось? Он чуть ли не выкрикнул:
— Ничего!.. Писем нет, вот чего! Уже девять дней. Почему? Худо дома. Нутром чую.
И все массажирует и массажирует ногу.
Запись двадцатая
Только-только мы успели пообедать, вошла Марья Гавриловна. Она была взволнована — мы это сразу заметили и притихли. У меня сердце сжалось в предчувствии: неужели еще какая-нибудь беда?
Марья Гавриловна оглядела нас, произнесла медленно:
— Ребята, дети!.. Мы уезжаем. Покидаем наше море, Крым…
Я сначала не понял: кто уезжает, зачем? Подумал, наверное, врачи. Ведь уже столько раз нам приходилось прощаться. Однако тут же все стало ясно…
— Из Москвы пришло распоряжение: увезти вас подальше от войны. Мы знаем: Красная Армия не пустит фашистов… Но мало ли что может случиться.
Клепиков крикнул «ура», Пашка, сдерживая восторг, произнес:
— Что ж, попутешествуем…
Ванька радовался откровенно.
— Вот здорово, вот удача, Саньша! Вдруг до самой Москвы довезут? Тогда я — дома! Ух, молодцы, ух, правильно придумали!
Итак, мы уезжаем. Прощай, море. Завтра — послезавтра я тебя больше не увижу.
Тетрадь четвертая
Запись первая
Вот мы и на новом месте: среди зеленого бора, на маленькой станции километрах в ста пятидесяти от Харькова. Ехали сюда четыре дня, а писать о дороге нечего. Мне, как всегда, не повезло: положили на нижнюю полку, и я ничего, кроме неба, верхушек столбов да крыш вокзалов, не видел. Поначалу пытался было приподниматься, чтобы заглянуть в окно, но скоро бросил — нога разболелась, да и Марья Гавриловна настрого запретила. Так и доехал до места, будто кот в мешке.
Здесь оказался тоже санаторий, только поменьше и похуже нашего: один двухэтажный и два одноэтажных корпуса. Да и вообще на всей станции, кроме вокзальчика, домов с десяток если наберется — хорошо.
Нас, старших ребят и девчонок, разместили в одноэтажном корпусе и, конечно, без всяких веранд, так что придется, наверное, все лето торчать в палатах. Одно хорошо: окна большие и низко от пола — глядеть в них удобно. А вид — что надо! Корпус стоит на холме, вниз от него уходит поляна, поросшая травой и цветами, потом негустой и тоже цветущий розовым кустарник, а за ним высокая насыпь железной дороги, по которой бегут и бегут поезда.
Многим ребятам это не нравится: шумно, говорят. А я люблю, когда стучат колеса, когда разносятся разноголосые гудки паровозов и мелькают вагоны. Мой папка был железнодорожником, и мы всегда жили на станциях. Я и спать люблю, когда гудит и дрожит земля под тяжестью составов. Мы снова вместе, в одной палате: я, Ванька, Пашка Шиман, Ленька, Фимочка и Клепиков. Только к нам «подселили» еще двух здешних хлопцев — Никиту Кавуна и Борьку Сердюка. Хлопцы улыбчивые, разговорчивые и покладистые. Особенно Кавун. Он толстый, круглый и такой конопатый, что лицо коричневое.

























