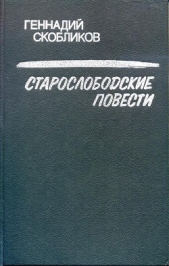Степкино детство

Степкино детство читать книгу онлайн
В 1935–1936 годах, уже в возрасте 55 лет, Исай Исаевич Мильчик начал писать свою первую повесть для детей. До этого И. И. Мильчик писал публицистические книги и статьи для взрослых. Основной его труд — автобиография под названием «За Николаевским шлагбаумом». «Степкино детство» — это первая часть книги, задуманной И. И. Мильчиком. В основу ее в какой-то степени положен автобиографический материал.
Автор хорошо знал эпоху 90-х годов прошлого столетия, хорошо знал обстановку и быт захолустной слободки на Волге, сам был свидетелем холерного бунта, испытал тяжелую жизнь рабочего подростка, вынужденного за гроши много часов подряд, до полного истощения физических и моральных сил, крутить колесо в механической мастерской, узнал, что такое каторжная тюрьма и сибирская ссылка. Обо всем этом он и хотел рассказать в своей повести. Во время Великой Октябрьской революции И. И. Мильчик — член Совета рабочих и солдатских депутатов Петрограда от Выборгской стороны. И. И. Мильчик прошел большой трудовой путь от токаря до заместителя директора одного из ленинградских машиностроительных заводов. В 1937 году в номере 1 журнала «Костер» были опубликованы главы из повести под названием «На речке Шайтанке». Над этими главами автор работал с С. Я. Маршаком и Л. К. Чуковской. Автору не удалось закончить книгу: в феврале 1938 года жизнь И. И. Мильчика трагически оборвалась. Рукопись в виде законченных и незаконченных глав, набросков, черновиков сохранилась у жены и сына И. И. Мильчика. По просьбе издательства писательница А. И. Любарская тщательно изучила все эти материалы и подготовила рукопись к изданию.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Прошли крыльцо, обогнули горницу, миновали боковушку. Вот и амбар.
Капка широко распахнула перед ребятами дверь.
— Идите смотрите на покойника, коли не боитесь.
Ребята переступили порог. Темно. После дневного света ничего не видно. Только где-то в глубине мерцает огонек. Это свечка стоит на опрокинутой бочке. Ее пламя тихо желтеет в темноте.
Суслик и Власка перекрестились.
Степка покосился в угол амбара. Там, на груде пакли, лежал мертвый калмык, прикрытый неводом. Степка разглядел желтые, узкие ноги под смолистой сетью и отвернулся.
— Смотри, калмычанин-то как есть утопленник в неводе, — сказал он потихоньку Суслику.
Но Суслик не слышал его. Он шептался с Влаской:
— Пойдем, что ли, ближе, посмотрим, что у него на глазах-то, пятаки или гривны.
— Не пойду. И так знаю, что гривны.
— Что, боишься, комариное сало?
— Отстань.
По амбару беззвучно, как ночью, летали мухи и ударялись в лица мальчиков. Из развешенных под потолком балыков стекал прозрачный жир и тяжелыми каплями падал на пол.
Сзади кто-то вздохнул. Степка вздрогнул и обернулся. Фу ты, Власка это!
Нет, нехорошо здесь. Сумно, боязно.
Степка повернулся, хотел было уж уйти из амбара. И вдруг опять вздох. Нет, это не Власка… Это там, за бочкой, на которой стоит свеча.
Вдруг свеча затрещала, помигала умирающими вспышками и погасла. Стало черно, как ночью, и в темноте на весь амбар что-то захрапело:
— Хр-ррр…
— Батяша, — крикнул Власка и метнулся к двери.
Суслик замахал на кого-то руками и тоже попятился к двери.
Степка оглянулся на бочку, на паклю, где в темноте желтели ноги покойника, и бросился вслед за товарищами.
А Власка с Сусликом уже барабанили кулаками в дверь:
— Цапля, зачем засов задвинула? Отопри! — визжали оба и шарили руками по двери, отыскивая скобку.
И вдруг за бочкой кто-то забормотал:
— Осподи Сусе, владыка живота моего…
Степка повернулся, вытянул шею и охрипшим голосом крикнул: «Кто тут?» И, отдирая подошвы от пола, шагнул поближе к бочке.
Глаза его уже свыклись с темнотой. За бочкой на низенькой скамеечке, упираясь в землю клюкой, сидела косматая старуха. Старуха сидя спала и во сне что-то бормотала.
— Тьфу ты, со своим владыкой, — плюнул Степка.
Он обернулся к ребятам и крикнул:
— Ну, чего вы всполохнулись? Это вовсе бабушка Сахариха тут сидит. Подумаешь, какое дело!
— Ну-ко ее, страшную, — заныл Власка, — уйдем отсюда.
Но Суслик уже волок его к бочке.
— И вовсе ты не Сахариху боишься, а покойника.
— А сам-то ты! — огрызнулся Власка.
— А что я?
— А ты не боишься?
— Я — нет. Я вот он — иду.
Старуха проснулась. Она подняла голову и уставилась мутными глазами на Степку. Долго глядела. Потом спросила:
— Это ты, Онуфрий?
— Нет, это мы, бабушка. Я, Степка Васенин, да Суслик с Влаской. А как ты сюда попала, бабушка?
— Я-то? Псалтырь я читаю. Хозяин двугривенный посулил. Чай, отдаст?
— Двугривенный? Не знаю. А это зачем у тебя? — Степка кивнул на бадейку с водой.
Старуха порылась в кармане, вынула берестяную коробку с нюхательным табаком, насыпала табаку на ладонь, понюхала и ни с того ни с сего сказала:
— А табак-то ноне против прежнего ничего не стоит: кизяком пахнет… Вода зачем, говоришь? Вода покойнику нужна, чтобы на том свете личико умыть.
И вдруг взвизгнула:
— Отвяжись, проклятый!
Голова старухи опять опустилась на клюку, и опять она что-то забормотала.
— Бабушка, — крикнул Власка над самым ее ухом, — скажи, что кладут на глаза калмычинам: пятаки или гривны? Скажи, мы на сбитень спорим.
Старуха бессмысленно уставилась на Власку, потом подняла над головой свечу и сказала:
— Гляди вон сам.
Огонек свечи осветил сначала желтые космы на трясучей голове самой старухи, ее задранный кверху подбородок, обросший седой порослью. Потом заблестел на обтянутых скулах мертвеца, на кончике носа.
На груди у калмыка Степка увидел медную дощечку — иконку Николая-угодника. Свет упал покойнику на лицо. Два больших медных пятака темнели на глазных впадинах. Мертвец точно смотрел ими на Степку.
Власка дернул за рубашку Суслика и зашушукал:
— Видишь, пятаки.
Суслик и сам отлично видел, что пятаки. А все-таки сказал:
— Нет, гривны это.
— Да пятаки же, ну, смотри. Покупай теперь сбитню.
Суслик молча сунул Власке под нос фигу и снова повернулся к старухе:
— Бабушка, ведь калмык не нашей веры, зачем же ты ему Николу положила?
Старуха сердито пожевала губами.
— Дурак, — сказала она, — Никола над всеми святыми — и русскими и калмыцкими — старшой. Он и от волны морской спасает, и ветер попутный нагоняет. На море только один Никола — бог.
— Купишь, что ли, сбитню-то? — канючил Власка. — Ведь пятаки на глазах у него. Пятаки! Я, я выиграл, — тыкал себя пальцами в грудь Власка. И вдруг заорал на весь амбар: — Степка, что он меня щиплет!
Но тут звякнула снаружи задвижка. Приоткрылась дверь, в щель хлынул свет, и в амбар просунулась Капка. Она тяжело дышала, косичка торчала у ней кверху, глаза испуганно моргали.
— Фургонщики! Мамыньку схватили.
В амбаре сразу стало тихо. Степка, сдвинув брови, уставился на дверь. Фургонщики! Что теперь делать?
Капка присела на пол и, обхватив голову обеими руками, раскачивалась из стороны в сторону.
Втянув тонкую шею, Суслик во все глаза глядел на Степку. А Власка, не мигая, смотрел, как раскачивается, сидя на корточках, Капка.
Наконец Степка опомнился:
— Бежим!
И первым ринулся к двери.
Глава X. Фургонщики
Выскочили ребята из амбара и остановились. Вот они, фургонщики. Двое их. Один — длинный, другой — малорослый. Оба в черных балахонах до пят, оба — в кожаных рукавицах по локоть. Они уже схватили Звонариху и тащат ее на носилках к воротам. Звонариха охает, стонет, высовывает из-под одеяла черные, будто обугленные, руки.
— Ох, смерть моя, смерть! Куда вы меня, злодеи…
А пальцы-то у ней, ой, какие пальцы, — скрюченные, узлом сплетенные.
Капка бесстрашно идет возле носилок, подтыкает под Звонарихины бока лоскутное одеяло, подушки под головой поправляет.
Степка, Суслик и Власка стоят у крыльца, смотрят в спины фургонщикам и не шелохнутся. Еще оглянутся фургонщики, сцапают их заодно со старухой и тоже утащат не знай куда.
У ворот уже стоит наготове черный фургон, похожий на те, в которые живодеры загоняют собак. Кучер уже распахнул дверцы фургона. Некому заступиться за Звонариху. Еще минута какая-нибудь — и увезут Звонариху, и костей ее не сыщешь.
И вдруг в эту последнюю минуту, как из-под земли, вырос сам хозяин, Гаврила Звонарев. Борода у него войлоком, ноги колесом. Он встал поперек ворот, раскинул руки и загородил фургонщикам дорогу.
— Не пущу! Мой двор! Я — домовладыка!
И закричал ребятам:
— Парнишки! Спускай скорее Лютру! Бей их веслами!
Ребята сорвались с места и кинулись к Гавриле. Капка крикнула:
— Под крыльцом весла! — и, мотнув косичкой, бросилась спускать Лютру.
Степка, Власка и Суслик выхватили из-под крыльца по веслу и все трое побежали к фургонщикам.
— Дай им, дай! Бей их! — орал Звонарев.
Ребята скакали вокруг фургонщиков и только веслами махали. Хочется ударить, а страшно.
А фургонщики, как немые, волокут молчком Звонариху и прут прямо на Гаврилу. Гаврила пятится от носилок и все орет: «Я домовладыка! Не пущу!» А ударить фургонщиков тоже боится.
И утащили бы фургонщики Звонариху, если бы вовремя Капка не спустила с цепи Лютру. Лютра кинулась на фургонщиков, вцепилась в их балахоны — только клочья полетели.

Тут и голос взялся у фургонщиков.
— Отбивай собаку! — заорал длинный. — Вышибай старика!
Маленький, не выпуская из рук носилок, зацыкал, затопал на Лютру. Хочет страху нагнать, да кто же его бояться станет! Сам щуплый, как пигалица. И ни усов у него, ни бороды. А голос тонкий, бабий. Тощие ноги болтаются в сапогах, как пестики в ступе. Всего-то его на кошачий обед…