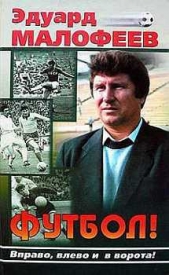Апокриф Аглаи
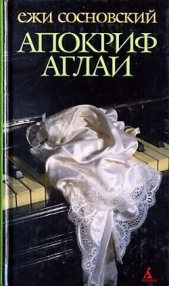
Апокриф Аглаи читать книгу онлайн
«Апокриф Аглаи» – роман от одного из самых ярких авторов современной Польши, лауреата престижных литературных премий Ежи Сосновского – трагическая история «о безумной любви и странности мира» на фоне противостояния спецслужб Востока и Запада.
Героя этого романа, как и героя «Волхва» Джона Фаулза, притягивают заводные музыкальные куклы; пианист-виртуоз, он не в силах противостоять роковому любовному влечению. Здесь, как и во всех книгах Сосновского, скрупулезно реалистическая фактура сочетается с некой фантастичностью и метафизичностью, а матрешечная структура повествования напоминает о краеугольном камне европейского магического реализма – «Рукописи, найденной в Сарагосе» Яна Потоцкого.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Шел урок, зеленый линолеум покрывал, как прежде, весь коридор, и, как прежде, скульптура патрона школы носила на себе следы художественной деятельности учеников (мы настойчиво напяливали на него шапки, а сейчас по его лицу было видно, что недавно он обзавелся на некоторое время нарисованными мелом очками). Секретарша сообщила мне, что я спрашиваю про директора школы и что мне придется подождать звонка. Повышение Пуэллы обрадовало меня, но и поселило в душе сомнение. Прошло столько времени – может, она меня не помнит? Я с опозданием увидел ее рядом с собой.
– Кого я вижу! Что привело тебя к нам? – воскликнула она с таким энтузиазмом, словно после моего выпуска у нее не было еще нескольких сотен учеников.
Потом она кивала головой в такт моим словам – нынешняя программа латинского языка, учебники, ожидания учеников, – а ее этрусские глаза при этом иронически поблескивали. В конце она спросила:
– А ты не хотел бы преподавать в нашей школе? У меня драма – я ищу учителя польского языка и литературы. Хорошего учителя. – По легендарным бледно-розовым губам скользнула улыбка.
Но какой смысл? Мне нужна была хорошо оплачиваемая и не слишком обременительная работа, и я вовсе не собирался брать на себя ответственность за несколько десятков человек с патологической способностью делать ошибки в самых простых словах и непреодолимым отвращением к Элизе Ожешко. [7] И притом за сумму, которая смахивает скорее на пособие по безработице, чем на зарплату. Но Пуэлла… Каменный патрон с пририсованными очками… Зеленый линолеум… Когда я видел их в последний раз, я еще не знал своей бывшей, собирался по-быстрому расправиться с польской филологией и пойти на кинорежиссуру, убежденный, что «Оскар» ждет не дождется меня. В баре на углу мы с приятелями ели гамбургеры и взаимно поддерживали друг в друге высочайшее о себе мнение. Каждая дискотека была обетованием встречи с великой и единственной любовью. Пуэлла выжидательно смотрит на меня, и в ее светлых волосах я вижу серебряные нити; какие-то ученицы проходят мимо, и до меня долетает, как одна спрашивает у другой: «А это что еще за очередной дон Педро?» В конце концов, Абрамовский может пока подождать, я уже много успел сделать, работал над ним интенсивно, слишком интенсивно – подсказывает во мне тот, кто еще долго будет оплакивать мой брак.
– Сколько часов? – спрашиваю я, и Пуэлла лучезарно улыбается.
А надо мне было спросить, кто в этой школе преподает музыку. Или хотя бы заинтересоваться, почему та девочка в вопросе о доне Педро употребила эпитет очередной. Это было гораздо важней. Рик ни за что не прошляпил бы подобный сигнал.
2
Очень скоро школа стала для меня чем-то вроде йоги: она придавала костяк бытованию, ритм, которому я мог подчиняться без предварительных обоснований. И которому должен был подчиниться. Четверг, когда у меня не было уроков, стал наихудшим днем недели, не считая, разумеется, выходных, они переносились тяжелее всего; но даже в эти ничем не занятые дни достаточно было вспомнить про существование четырех классов, почти ста двадцати человек, потенциально симпатичных, но фактически безжалостных, чтобы меня тут же бросало в холодный пот – это вместо слез, – и я погружался в изучение давно уже не освежавшихся в памяти текстов – Кохановского, Мицкевича, Реймонта, Херлинга-Грудзинского [8]… Словно улитка, утратившая домик, но обретшая, да, пусть временную, но все-таки скорлупу, я все больше радовался тому, что легкомысленно позволил Пуэлле соблазнить меня своей улыбкой. В театр этот, где я играл роль преподавателя польского, я контрабандой протаскивал рассказы о себе, комментировал горькую мудрость одной из «Песен» Кохановского: «Скажи, хозяин, слугам, пусть подадут к столу нам вина дорогие», [9] едва замаскированными воспоминаниями о своих собственных кошмарных субботних утрах, когда только спиртное, которым я все еще слегка злоупотреблял, спасало меня от низвержения в безграничное отчаяние, и испытывал почти мальчишескую радость, оттого что между контрольными работами и записывавшимися на доске темами урока этот отрывок неизменно предстает мне очередным актом творения, очередным фрагментом формы. С течением времени все у меня на уроках стало настоящим, хотя и оставалось нереальным, условным. Недели через две ко мне на урок пришла Пуэлла. «Я знала, ты подходишь для этого», – сказала она мне после звонка, прежде чем уйти по коридору.
В этом же коридоре я увидел – правда, несколько раньше, примерно через неделю после начала работы – знакомое лицо, но прежде чем до меня дошло, что передо мной дон Педро «номер один», я задал себе вопрос, не обманывает ли меня зрение. Если это тот, кого я – как мне показалось – узнал, то что он делает в школе? Когда он среди шумливой группы учеников проходил мимо меня, наши глаза на какую-то долю секунды встретились, и на его лице тоже отразилось удивление. Но он не остановился, прошел дальше – к уборной около лестницы. С минуту я чувствовал себя так, словно мимо меня промаршировало мое отражение в зеркале – черная водолазка, черные джинсы, недельная щетина («Five o'clock shade», как определила англичанка, которая преподавала еще при мне, но не в моем классе). Наверно, он учит Закону Божьему, подумалось мне: от него веяло чем-то духовным, но скорее православного толка, чем римско-католического; так я подумал, направляясь с журналом под мышкой в противоположную сторону. Играющие в маялку юноши из выпускного класса кивнули мне, словно в шеях у них были установлены крохотные рычажки: подбородки механически выдвинулись вперед, судорога шейных мышц: здрссте. Я остановился перед расписанием уроков, ну да, «Музыкальное воспитание – преп. Клещевский». Ну конечно же.
Адам Клещевский, поздний ребенок дяди Яна и тети Рени, был моим дальним родственником. Не виделся я с ним уже бог знает сколько времени. Он был старше меня на несколько лет и долго оставался любимцем всех бабушек и тетушек, каковых в нашем широко разветвленном роду был явный переизбыток. Ему назначено было стать пианистом, и во всяком случае раза два-три он придавал блеска родственным сборищам небольшими концертами: «К Элизе», какая-нибудь простенькая мазурка, медленно сыгранная фуга Баха. Я тогда ему немного завидовал – банту на шее, сосредоточенному выражению лица, с каким он садился за пианино, растроганности в глазах взрослых. Потом был еще один концерт у него дома, неподалеку от Нового Света, на который пришли его соученики по академии. Музицирование затянулось до ночи, и я лез вон из кожи, чтобы остаться с ними, но общество свежеиспеченного лицеиста не представляло для них интереса, а родители мои как всегда в десять вечера отправились домой и, разумеется, забрали с собой и меня. Потом были упорные толки, что у него большие шансы в ближайшем шопеновском конкурсе, а еще позже случился скандал: Адам неожиданно бросил рояль, рассорился с родителями и ушел из дому (с какой-то профурсеткой, как объясняла с гримасой отвращения хорошо информированная тетя Люся). Это было в середине восьмидесятых, родители Адама вскоре умерли, а остальные родственники дружно признали его несуществующим. И вот я опять увидел его.
В школе он бывал всего три раза в неделю, причем один из них приходился на четверг, оттого-то я и не сразу встретился с ним. Пуэлла, которой я мимоходом сообщил о своем родстве с Клещевским, отреагировала довольно странно.
– Так ты, значит, родственник учителя музыки, – улыбнулась она, но как-то неопределенно, одними уголками бледно-розовых губ, и я бы даже сказал, улыбка была кривоватая. – Выходит, ты наша единственная надежда. Может, ты с ним поговоришь? Он трудный человек.
Но тут зазвенел звонок, и мне не удалось узнать, что она имеет в виду.
Адам, как я заметил, избегал учительской. Я не вполне понимал его. Часть из учителей я знал сыздавна и питал к ним нечто вроде симпатии, несмотря на то что военрук (которого еще в мое время не слишком уважительно звали Сухостоем) рассказывал скабрезные анекдоты, биологичка Флора вульгарно заигрывала с химиком Драбчиком, а постаревший физрук, заглядывавший в учительскую на большой перемене, неизменно вытаскивал из сумки «Трыбуну» и доказывал пойманному неосторожному учителю (мимо стула физрука проходила дорога к кофеварке), что раньше было лучше. Но тем не менее мне казалось, что в этих людях есть нечто хорошее, хотя четко определить, что именно, я бы не смог. Может быть то, что они оставались такими же, как когда-то? А может то, что относились они ко мне с лестной для бывшего ученика дружелюбностью, в которой я невольно улавливал гордость (удачный выпускник)? А возможно, все дело было в моей потребности испытывать симпатию к живым существам, которых мне так недоставало в моей квартире?