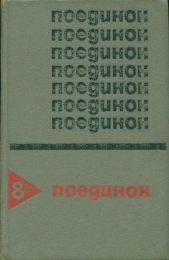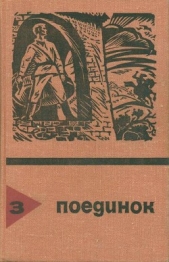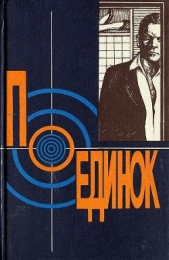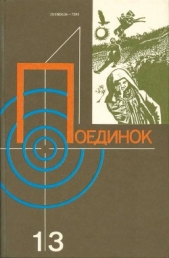Поединок. Выпуск 7

Поединок. Выпуск 7 читать книгу онлайн
В седьмом выпуске ежегодника “Поединок” публикуются приключенческие повести и рассказы Геннадия Головина, Артура Макарова, Леонида Словина и других авторов
Московские писатели рассказывают о борьбе чекистов с белыми бандами на Дальнем Востоке в годы гражданской войны, о петроградских событиях 1919 года, о подвигах советских разведчиков и о тех, кто стоит сегодня на страже справедливости и порядка.
СОДЕРЖАНИЕ
Повести
Геннадий Головин. “Миллионы с большими нулями”
Артур Макаров. Будь готов к неожиданностям
Александр Беляев. Никогда не забуду
Рассказы
Леонид Словин. Свидетельство Лабрюйера
Эдуард Хлысталов. Приговор
Владимир Рыбин. Ночные птицы
Антология “Поединка”
Иван Макаров. Рейд Черного Жука
Наши авторы
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я вспоминаю чье–то изречение: «Если у человека атрофированы чувства, ему уж нечего делать на земле».
Эта вздорная мудрость напугала меня. Я пытаюсь убедить себя в обратном. Есть слова, которые всегда ранят меня в самое сердце. Я произношу их:
…С плачем деревья качаются голые…
Но они уж стерлись для меня. И им уж недоступно восприятие. Я навеки обернут непроницаемой, липкой клеенкой с трактирного стола.
…С плачем деревья… качаются голые…
Внезапно мне кажется, что со всех сторон я окружен темным девственным лесом. Люди — существа, подобные мне, — исчезли вовсе, а может быть, их никогда и не было, и я обречен долго жить среди незнакомых мне, прячущихся от меня существ и умереть, так и не увидев ни одного человека.
Я проваливаюсь в узенькую бездонную щель первобытной тоски.
Я задыхаюсь, задираю к небу голову, вскидываю руки и вновь кричу:
…С плачем… деревья… качаются… голые…
Что–то легко упирается мне в грудь с правой стороны… Я гляжу на это «что–то» и лишь через несколько секунд соображаю: это бамбуковый шатур, который мне подарил Андрей Фиалка. Он висит у меня на поднятой руке, упираясь нижним концом мне в грудь. Прикосновение постороннего предмета пугает меня. Я опускаю руки и хочу снять с руки наручник палки. Меня окликнул китаец, и я прихожу в себя.
Китаец кривит свою желтую рожу. Он хочет выразить мне свое сочувствие. Молиться на меня он готов за то, что я веду его к большевикам, в легендарную страну Россию — Ленин.
— Капитана, твоя шибыка скушна, — восклицает он и повторяет: — Шибыка, шибыка скушна…
Наотмашь я ударяю его по лицу. Китаец падает и визжит. Нас окружают люди. Мне становится страшно от их молчаливого ожидания. Я чувствую неотвратимую потребность оправдаться перед ними и говорю, указывая на корчащегося китайца:
— Андрей, надо покончить с ним.
— А за што? — спрашивает Андрей.
Я достаю письма Павлика и многозначительно потрясаю ими. Я хочу сказать, что мне сообщают о китайце как о большевистском шпионе, но вовремя вспоминаю, что такой отчет подорвет мой авторитет начальника.
— Не твое дело спрашивать! — кричу я.
Это мгновенно приводит моих людей в повиновение. Даже Андрея Фиалку.
— Нечем, сокродье, — оправдывается он, беря под козырек.
Несколько голосов поддерживают его:
— Фиалке теперь нечем. Чем же ему, Фиалке, теперь?.. Инструментину он свою даве обронил.
Оглядывая людей, я разыскиваю цыгана. Я хочу показать Андрею Фиалке, что не нуждаюсь больше в нем. Сейчас он поймет мое намерение и тогда сразу найдет чем.
Своего страшного «первенства» Андрей Фиалка не уступит никому.
Но дядя Паша Алаверды спрятался от меня. На глаза мне попадается гимназист–поэт. Я подзываю его и, указывая на китайца, говорю:
— А ну…
Гимназист догадался, но как бы хочет убедить себя, что он неправильно понял мой приказ.
Он сдвинул назад свой прямой палаш, торчащий у него за поясом, нагнулся и помог китайцу встать.
Китаец поднялся и трет обеими ладонями верхнюю губу и ноздри. Меня поразило одно: у него не было слез. Глаза были сухие и как–то сразу глубоко ввалились.
Гимиазист–поэт робко и вопросительно посмотрел на меня. Издеваясь, я спрашиваю:
— Ты разве не можешь? Ведь ты курицу не можешь, а человека — ге?
Он онемел вовсе. Рука застыла на широком узорном эфесе палаша. Он чего–то ждет.
— А нну! — вскрикиваю я.
Он машинально повертывается к китайцу и медленно вытягивает из–за пояса длинный обнаженный клинок палаша. Но он не знает, как надо действовать прямым клинком.
Сначала он замахивается и хочет рубануть, но от неудобства и страха рука у него завяла.
Высокий джени–китаец парализован. Кровь из носу мгновенно перестала течь, казалось, засохла и потеряла свою яркость на его побледневшем, сером лице. Вокруг глаз лежат большие темно–синие кольца.
Гимназист не в силах оторваться от его лица. Я опять подстегиваю гимназиста окриком:
— А нну!..
Он, уже не оглядываясь, сгибает руку в локте и замахивается удивительно ловким прямым ударом. Таким ударом даже при средней стремительности нанесения палашом можно пронизать насквозь и раздробить позвоночник. Но, замахнувшись, гимназист опять вдруг ослабел и тихо подвел конец палаша к горлу джени–китайца. И оба они — и гимназист и китаец — одновременно вздрогнули. Точно бы палаш, коснувшись шеи дженн–китайца, соединил их каким–то мгновенным током.
— А ну! — в третий раз крикнул я и стукнул его бамбуком. Я знаю, боль вызывает бешенство и в приступе этого бешенства сейчас все кончится.
Я угадал. Гимназист–поэт не оглянулся на меня. После удара он заурчал и как–то странно, по–заячьи, зафыркал. Я стукнул его еще раз по шее сзади. Я видел, как кожа на его щеках задергалась в судорожном приступе злобы. Отвернувшись от джени–китайца полубоком, но не сводя с него глаз, а лишь выставив вперед левое плечо и как бы закрывая им китайца, гимназист–поэт стал медленно пятиться назад, занося для прямого удара руку и не переставая урчать и фыркать.
Отступив шагов на пятнадцать, гимназист на мгновение встал, умолк и внезапно ринулся на джени–китайца, наклоняясь вперед всем корпусом. Точно бы тяжесть его растянутого корпуса валила с ног и заставляла бежать как можно быстрей, чтоб сохранить равновесие и выпрямиться.
Джени–китаец не выдержал и упал. Гимназист–поэт выронил палаш и тоже рухнул на землю. Корчась в нервной судороге, он шарит по земле руками, точно бы ищет свой палаш, и бормочет:
— Боженьки, боженьки, вот и моя жизнь…
Я гляжу на лица моих людей. Такая слабость гимназиста вызывает у них презрение и дикую ненависть. Никто из них не простит ему этой мягкотелости. И уж никто из них не пощадит его.
Моя ненависть к гимназисту теперь стала ненавистью всего отряда.
Андрей Фиалка подходит к нему, поднимает палаш и, наступив на середину клинка, ломает его пополам: он не может работать длинным клинком.
Отходя в сторону он сумрачно произносит:
— Не убегет, сокродье, китаеза, мама–дура, никуды.
Сейчас же откуда–то выныривает цыган и тоже вторит поспешно и сладко:
— Не убежот, не убежот… Куда ж он убежот, начальник?
Андрей Фиалка берет свои кремни, сбивает с обломка палаша эфес и вставляет сломанный клинок в ножны, которые он хотел приспособить для своего заброшенного германского тесака. Чуточку пораздумав, он садится на корточки, вбивает камень в землю и, обнажая обломки клинка, начинает другим камнем «оттягивать» и заострять конец.
Ему неспособно, и камень саднит ему руку.
Андрей Фиалка свирепеет.
Темнеет. Слышны частые и злые удары камня о сталь, Андрей Фиалка «кует мечи». Летят мелкие искры. Я подхожу к Андрею и говорю:
— Взял бы инструмент из повозки.
Но Андрей Фиалка не хочет замечать меня. Я отошел в сторону. Меня нагоняет Ананий Адская Машина. Он по–мужицки снимает передо мной свою тирольскую шляпу и спрашивает:
— Как с этим прикажешь быть, с песнопевцем?
Так он называет гимиазиста–поэта. К нам подходят еще несколько человек. Видимо, они уже обсуждали меж собой судьбу гимназиста.
Я решаю оттянуть им это удовольствие.
— Сейчас уж некогда возиться, скоро тронемся.
— То–то, — соглашается Ананий. — И я говорю, что некогда сейчас. Это дело исподвольки нужно. — Но, помедлив, он снова намекает: — А то, конешно, и развязаться с ним недолго. Один минут. По–тамбовски, по–нашему, мы, бывало, тоже вечерами вот этак же, — бросает он, вглядываясь в небо.
Но я молча ухожу к берегу Аргуни. Скоро переправа. До середины реки вода китайская, а там большевистская. Невидимая, несуществующая и вместе с тем неминуемая линия лежит посредине реки. Граница.
От малейшего искривления, колебания этой несуществующей линии загораются войны, гибнут тысячи и сотни тысяч жизней. Этому чудищу ихтиозавру — границе — человечество на протяжении всей своей истории приносит миллионы кровавых жертв.
Я задаю себе вопрос: есть ли у человечества выход? Неужели на протяжении тысячелетий люди его не смогли ответить на вопрос: что есть причины войны? Где ж выход? Неужели вон там, за Аргунью, там, в широкой темной степи, имя которой Россия, — Ленин?