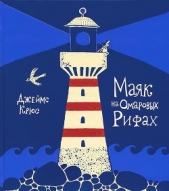Бал для убийцы

Бал для убийцы читать книгу онлайн
Три убийства, разделенные почти столетием, - звенья одной цепи. Что связывает трагические события в дореволюционном Санкт-Петербурге и страшное преступление в провинциальном городке наших дней?
Главная героиня, став жертвой обстоятельств, раскрывает эту тайну и к своему ужасу находит настоящего убийцу.
Безумная любовь и ненасытная жажда мести - лабиринт сплетающихся времен и зеркальных судеб не отпустит вас до последних страниц романа.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Софья — это ваша старшая дочь?
Он будто не расслышал. Все его сознание, всю жизнь — прошлую и настоящую — вобрала в себя крошечная миниатюра в изящной овальной рамке тонкого серебра. Она действительно была красавицей, его дочь, в чертах которой сочетались гордость и надломленность и какая-то очень аристократичная безысходность, словно она предчувствовала свой конец (правила конспирации, выученные по брошюре, составление отчетов по ночам, при свете лампады, муки совести, слезы в подушку, которых никто не видел, — где вы были, дражайший Павел Евграфович, где были ваши глаза? Черная вуаль, визиты к „доктору Вердену" — гибель, гибель…). Да, она предчувствовала конец. И приняла его как величайшую милость.
— Она умерла, моя Сонечка.
Я точно разыграл реакцию на известие о смерти (пусть и незнакомого человека).
— Умерла… Господи, что вы, должно быть, пережили… Как это случилось?
— Она отравилась. Или ее отравили — полиция не пришла к однозначному выводу. Мы не представлены, извините…
— Это не важно.
— В самом деле… Следователь высказал мысль, что к смерти Сонечки причастен ее муж, Вадим Никанорович Донцов. Однако улик не нашлось (как, впрочем, и алиби: якобы в тот момент он был в ресторане, на банкете по случаю удачной сделки). Да я и не верю в его виновность: где мотив? Материально он не был заинтересован в ее гибели, а любовь, ревность, страсть… вообще сильное чувство ему, кажется, неведомо. Холодный расчетливый делец, не понимаю, что Сонечка нашла в нем… Впрочем, богат, привлекателен, еще не стар, имеет вес в обществе.
— Гм… Вы не верите в самоубийство и не верите в виновность вашего зятя… Значит, у вас есть собственная версия случившегося? Вы наверняка не раз размышляли над этим…
Он вздохнул.
— Я уже забыл, когда спал в последний раз. Есть такое божье наказание: бессонница. Говорят, происходит от нечистой совести.
— В чем же вы видите свою вину?
Он молчал. Я уже собрался окликнуть его, но Павел Евграфович вдруг очнулся и извлек из знакомого портмоне измятый листок тонкой ученической бумаги.
— Я уже два года ношу это с собой — сам не знаю зачем. Стараюсь вникнуть в смысл, но, странное дело, мозг сопротивляется, не дает…
— Что это?
— Я нашел это случайно, в корзине для бумаг. На следующий день после смерти Сонечки. Поначалу я решил, что она писала кому-то письмо — она всегда составляла прежде черновик, потом переписывала набело. Но потом…
Я посмотрел на бумагу: памятка ученику, как вести себя на улице при встрече с учителем гимназии, директором или попечителем, красиво напечатанные строки под заголовком с красивым вензелем. Перевернул — разлинованное поле для „Расписания занятий", пустая графа отметок, отрывные билетики для посещения драматического театра… И какой-то рукописный текст, смысл которого до меня дошел не сразу.
— Это писала не Сонечка, — сказал профессор Немчинов. — Не ее почерк, и дневник… Зачем писать в дневнике, если есть целая пачка специальной бумаги для писем (полиция нашла у нее в вещах), — он вдруг внимательно посмотрел на меня, чуть сощурившись. — Скажите, мы не могли встречаться раньше?
Я заставил себя улыбнуться.
— Вряд ли. У меня слишком типичное лицо, так что ваша реакция неудивительна.
— Правда? — непонятно было, поверил он или нет. — Что ж, прощайте. И простите меня за излишнюю болтливость. К старости человек часто начинает страдать словесной несдержанностью.
Он с трудом поднялся и пошел прочь, заметно подволакивая левую ногу. У него была походка глубокого старика, хотя (я подсчитал) ему должно было быть не больше шестидесяти пяти.
Забегая вперед, скажу, что много лет — пока я был в состоянии — я старался не выпускать Любушку из поля зрения. Давно уже перестал существовать Летучий отряд Карла: в одну мартовскую ночь были арестованы все его члены. Восьмерых — ядро — повесили на Каменном острове, остальных „закатали" в Сибирь и на Сахалин или приговорили к разным срокам. Лебединцева я больше не встречал… Мне рассказывали, что когда жандармы ворвались в квартиру, где он скрывался (это лишний раз убедило меня в моих подозрениях: только один человек знал адрес, и только он мог навести полицию на след), Карл отпрыгнул к стене и закричал: „Осторожнее! Здесь кругом динамит, если будете стрелять, дом взлетит на воздух!"
Его взяли со всеми предосторожностями — комната и впрямь была нашпигована взрывчаткой, готовился акт против министра юстиции. Одна искра — и на месте большого дома со множеством жильцов осталась бы черная воронка. Люба Немчинова сдалась сама: гордо положила браунинг на стол и протянула вперед руки.
— Мы могли бы обойтись без наручников, барышня, — сказал жандармский офицер. — Если вы дадите слово вести себя спокойно».
— Не могу обещать, — усмехнулась она. — И уж во всяком случае, я не нуждаюсь в вашей жалости.
…Лебединцева казнили через две недели после вынесения приговора. Позже в его камере нашли записки, поразившие ученых-астрономов смелостью своей мысли: он был на грани новой концепции рождения галактик.
Любушка держалась до конца — после того как закончилась обвинительная речь (прокурор требовал смертной казни), она поднялась и продекламировала в зал строки Пушкина: „Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья…"
— Боже, как они молоды и чисты, — прошептал прокурор Ильин, выйдя из здания суда, — белый до синевы, пытающийся закурить, но то ли руки дрожали, то ли слишком сильный был ветер. — Мы никогда их не одолеем. На нашей стороне сила, да… Но нет убежденности, нет настоящей веры, нет горенья. Лишь слепая бюрократия: мы видим, куда она ведет нас, и молчим.»
С Литейного он поехал к полковнику Ниловскому. Тот, увидев его состояние, достал из серванта бутылку „Смирновской", налил два фужера и тихо произнес:
— За упокой их души, Владимир Гаврилович…
Ей разрешили петь, и она пела. Разрешили перестукиваться с соседями — и она просила, чтобы ей передали веревку, повеситься. Она всегда стучала нервно и очень быстро, так, что трудно было разобрать. Она была очень смела — смелее многих. На прогулке 1 мая она вдруг запела „Вы жертвою пали в борьбе роковой…". Охранники кинулись к ней, началась свалка, закончившаяся карцером — каменным мешком без окон, в глубоком подвале. Из карцера ее вызвали в канцелярию — оттуда она пришла возбужденная, с неистово горящими глазами… Оказалось, что начальник предложил ей выбор: предать — и тогда приговор ограничится двадцатью годами каторги, или быть повешенной. «Вы молоды и красивы, — сказал он ей. — Кроме того, ваш батюшка имеет в обществе достаточный вес — возможно, нам удалось бы сократить срок, заменить каторгу ссылкой… В конце концов, и в Сибири живут люди». Любушка расхохоталась ему в лицо и выбрала виселицу.
Павел Евграфович действительно сделал все, что мог, ради дочери. Он рыдал, умолял, совал взятки одним и пытался даже шантажировать других… Не представляю, на какие рычаги он нажал, но через полгода врачебная комиссия признала Любушку невменяемой. Возможно, медицинские светила не так уж и покривили душой: к концу зимы девушка сдала окончательно — смеялась целыми сутками, отказывалась от прогулок, польку-бабочку танцевала по ночам сама с собой (надзирателей и тех пробирал мороз: черные стены, квадратик лунного света на полу, сквозь решетки, и женский силуэт, кружащийся, грациозный, словно летящий над каменным полом… Когда-то, еще в гимназии, Любушка была первой ученицей в танцзале).
Ее перевели в Творки (дом для умалишенных) — по сути, та же тюрьма с жестокими санитарами, где она пробыла вплоть до Февральской революции. Потом я потерял ее след. Времена настали лихие — настоящий Апокалипсис в отдельно взятой стране, выбранной Господом для каких-то своих жутковатых экспериментов. Людей разбрасывало взбесившимися волнами, безжалостно топило или выкидывало на край земли, на безымянные скалистые острова… По крайней мере, так я ощущал себя, сидя в маленьком флигеле двухэтажного дома на улице Ля Пинэ в Париже, откуда был виден левый берег Сены и Марсово поле. На первом этаже дома помещался рыбный магазин господина Рогира — хмурого норвежца, торговца сельдью и угрями, которых вылавливали в Северном море его соотечественники. Сначала рыбные запахи доводили меня до исступления, потом ничего, привык. Новости из России я узнавал из газет (крикливый мальчишка на велосипеде бросал мне их под дверь) или из писем друзей, которые приходили с опозданием в два-три месяца. Одно из них, написанное врачом психиатрической клиники в Творках, поведало мне о судьбе Любы Немчиновой. Однако это письмо от него оказалось единственным: вскоре в здание больницы угодил шальной снаряд, врача убило на месте, а Любушка…