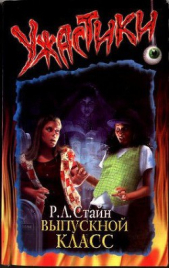Концы в воду

Концы в воду читать книгу онлайн
Ахшарумов всегда тяготел к изображению необычных людей, парадоксальных ситуаций и экстраординарных поступков. Он стремился запечатлеть противоречивость человеческой психики, ее «тайники» и «глубины», что закономерно влекло его к притче, фантастике и детективу. Но наиболее близок к этому жанру один из лучших его романов – «Концы в воду», – впервые опубликованный в 1872 году в «Отечественных записках» (№ 10-12). Умело выстроенный детективный сюжет сочетается здесь (как и в «Преступлении и наказании» Ф. М. Достоевского, которому Ахшарумов был во многом близок по направлению своего творчества) с глубоким проникновением в психологию преступника. Роман этот в какой-то степени предвосхищает композицию современного западного «триллера», поскольку здесь преступление расследует не сторонний наблюдатель, а человек, вовлеченный в действие и лично причастный к происходящему. Любопытный прием использован в заключительной части повествования – изложение событий с точки зрения двух основных персонажей. Благодаря всему этому роман Ахшарумова, написанный более ста лет назад, и сегодня читается с неослабевающим интересом.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Странное впечатление производит эта женщина, особенно когда нервы настроены, как они были настроены у меня в этот вечер. Это не светлое действие красоты, а томительная отрава проклятой страсти, бесовская прелесть, которая кружит голову и тянет в себя как в бездну!
Обед, потом опять опера; после оперы ужин; утренние визиты, вечерние; записки его руки и ее. Зовут, и я прихожу, сам не могу понять, зачем и как это делается. Мне скверно у них, и я возвращаюсь домой расстроенный, ночи потом не сплю, а между тем не могу отказаться, иду. Что-то слепое тянет меня к ним в дом, и вот уж с неделю, как я у них почти каждый день. Сказал бы, что становлюсь домашним, если бы у них и без меня не было целого легиона других домашних людей, между которыми я совершенно чужой, в кругу которых я плаваю, не сливаясь, сосредоточенный весь в себе, как капля масла в воде. Это какой-то новый и не вполне сформированный мир жизни и деятельности. Конторы, правления, обширная переписка и целые штаты служащих по всем концам России, целые сети связей, интриг, спекуляций, искательств и других отношений, но центра нет или, вернее сказать, есть несколько центров неровной и очень непостоянной силы, вокруг которых все это группируется и кружится. Я, впрочем, стою вне сферы их действия и не чувствую к ним никакой аттракции [26]. Меня тянет в другую сторону. Мне нужно ее. Вопрос: что такое она? – крепко интересует меня, и я изучаю ее то вблизи, то издали, смотря по тому, как позволит толпа, ее окружающая. К несчастью, я не могу заняться этим как следует, то есть обдуманно и спокойно. Я изучаю ее на собственный риск и страх как медик, который пробует на себе гашиш или опиум, или как зоолог, который взял в руки змею неизвестной породы. Мне любопытно и страшно, и еще что-то, что может быть хуже всего. Бывают минуты, с глазу на глаз с нею, когда меня охватывает огнем, после чего я чувствую, словно вся кровь у меня отравлена каким-то незримым, но жгучим ядом. Тогда мне становится дурно, и я проклинаю ее, готов все бросить, готов бежать от нее без оглядки, как от чумы.
Она неглупа, в обыденном смысле, но у нее нет нравственного понятия. Ей надо доказывать и объяснять по пальцам такие вещи, которые развитой ребенок пятнадцати лет поймет с двух слов. Так, например, по поводу этого разговора в антракте, который у нас возобновился потом раза два, она с трудом поняла, о каком еще аде я говорю, кроме того, в который Дон Жуан проваливается фактически; и хотя она прямо не признавалась, что статуя, черти и прочее действуют на нее гораздо сильнее музыки, но я догадываюсь, что это так. Когда я сказал ей, что это только орнаменты, а подлинный ад и ужас в душе, она не спорила, но я весьма сомневаюсь, чтобы она это поняла как следует.
– Вы спрашиваете, – сказала она между прочим, – неужели я не в силах представить себе мучений хуже физических? Но что я знаю об этом, и как я могу представить себе что-нибудь хуже того, чего я не испытала? Да и вы тоже. Вы не горели не только в вечном, но и в простом огне. Почем же вы знаете, каково это и есть ли на свете что-нибудь хуже?
Вопрос, впрочем, сам по себе неглуп; но за ним чувствуется что-то непроходимое… Потемки… чаща… Вглядываешься и, не видя пути, припоминаешь с каким-то странным чувством первые строки «Ада» [27]
IV
Недели три я была сама не своя: не ела, не спала, гадала, молилась, ставила свечи перед иконами и часто, по целым часам, сидела над колыбелью моей малютки, в горьких слезах раздумывая о том, что с нею будет, если меня постигнет несчастье. Тень Ольги, с блестящими, страшно расширенными глазами и вздутым лицом, в последний год оставившая меня немного в покое, стала опять моей неразлучной подругой, и никогда она не казалась мне так страшна, никогда я не мучилась так при мысли, что не могу от нее отвязаться. От Поля я мало имела помощи. Он вообще не любил, когда я расстроена или печальна, и требовал, чтобы я всегда являлась к нему с веселым лицом, а до того, что под этим лицом, ему было мало дела. Это всегда огорчало меня, но теперь стало как-то особенно тяжело и обидно. «Что ж, – думала я, – разве я ему не жена и разве у нас теперь не все общее?» Казалось бы, так естественно искать совета и утешения у человека – единственного на свете, которому я могла все открыть и который был опытнее, умнее меня, а между тем я часто не смела к нему приступиться, так он стал мрачен, нетерпелив и груб, теперь особенно, когда я, на свою беду, дала ему повод все сваливать на меня.
Черезов что-то не шел, и я уже видела, что это тревожит Поля более, чем он хочет мне показать… Он был всегда так скрытен!
– Поль! – как-то раз сказала я. – Он не идет.
– А, тебе уж не терпится?
Это меня обидело, и я его выругала.
– Ну, поздно уж теперь говорить комплименты!… Мы знаем друг друга… Рада ведь?… Только ты погоди радоваться. Черт его знает, что у него на уме. Может, его и не залучишь теперь сюда.
Опасение это, однако, оказалось преувеличенно. Дня через три он был у нас в ложе и после того стал частым гостем. С одной стороны – это казалось успокоительно, но мы не знали его намерений, и Поль имел все причины его опасаться, потому что он отказался от места, которое было ему предложено. Это случилось в тот самый день, когда Поль привез его в ложу.
– Уж ты, пожалуйста, мне не рассказывай, – говорил он потом, когда мы легли спать. – Уж я его знаю. Мне стоит только на рожу его взглянуть, чтобы сказать наверное, когда он лжет. Восемь, мол, лет жил рассудительно, надоело, хочу хоть с год подурачиться. Ты понимаешь ли, что это значит? Это значит: отваливай, мол, любезный друг, не стоит об этом толковать! Спесь, понимаешь ли, проклятая, старая, барская спесь! Мало была еще в переделке, не выдохлась! У меня, мол, своих 30000; имею право лежать на боку и тыкать тебе в глаза своей незапятнанной чистотою, если еще не хуже чем-нибудь, чего, разумеется, тебе не скажу – ты понимаешь? Но, кроме барства, тут есть еще и другая закваска. Это вот, видишь ли, один из тех книжников, которые, раз ошалев, возмечтали себя богами и с тех пор не могут никак разувериться, не могут понять, что им, как и всем, есть нужно. Они витают в каком-то эфире и все житейское мнится им ниже их высоты. Пока у них водится что-нибудь в кармане, хоть пять рублей, чтоб выйти на улицу джентльменом, в перчатках и в чистом белье, до тех пор к ним и приступу нет. Фыркает себе под нос, как кот, плюет на все и пальцем ни до чего не дотронется. Все подлость, все для него презренно. А вот как дофыркается до того, что рубаху выстирать не на что и зубы приходится положить на полку, тогда ты и купишь его за грош… Черезов этот как раз из таких, и я тебе должен признаться, просто ума не приложу, что мне с ним делать, кроме того, как хватить разве просто в физиономию, да потом пулю в лоб.
– Нет! – вскрикнула я. – Нет! Ради Бога, не говори о таких вещах!
– А что, тебе жалко его?
– Жалко не жалко, а это тоску наводит. Все думается: неужто не кончено? Неужели мало того, что было?
– А что же делать, если окажется мало?… Кто виноват?
Я разревелась. Он встал и вышел, оставив меня на всю ночь одну, с моею тоской, с моими страхами… Бессонная ночь! Чего только ты не приводишь с собою? Какие думы не посетят больной головы, когда подушка под нею в огне и она не находит себе до света покою? Я думала; никогда еще, кажется, даже в ту пору, когда эта проклятая мысль зрела в моей голове, не думала я так много, как в эти дни, потому что я никогда еще не была так одинока. Прежде была у меня хоть няня, думала я; она и теперь есть, да на что мне она теперь? Что я могу ей сказать?… Потом был Яснев, потом Поль. Но Поль теперь стал неприступен, и что я ему ни скажу от души, все только злит его. И еще я думала: как тяжело одиночество! Нет никакой опоры, не к чему прислониться и отдохнуть, все надо идти, идти куда-то, как вечный жид, и все нести на своих плечах. К кому я теперь могу обратиться? От кого ожидать участия и совета? И я вспомнила невольно Яснева. «Ах, – думала я, – если б Яснев был, здесь, мне кажется, я бы не утерпела. Была не была, а уж я бы ему рассказала все. Не знаю, что из этого вышло бы; может быть, он оттолкнул бы меня после этого, но за одно я ручаюсь: рн бы меня не выдал. Нет, он был не из тех людей, которые, как бараны, бегут не оглядываясь, все в одну сторону. У него был свой взгляд на вещи, кроткий и снисходительный, и он любил меня как дитя. Я даже думаю, что он бы меня не оттолкнул, как бы я ни была скверна, хоть вся выпачкана в крови, и тогда не оттолкнул бы. В нем было что-то такое собачье; я разумею, что он был верен и предан мне как собака, без рассуждений и без оценки, так просто…