Рефлекс змеи (Отражение)
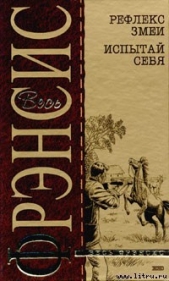
Рефлекс змеи (Отражение) читать книгу онлайн
Смерть фотографа Джорджа Миллеса поначалу не привлекла к себе особого внимания, и лишь после того, как неизвестные жестоко избили его вдову, а потом подожгли его дом, стало ясно, что кто-то очень заинтересован в том, чтобы найти и уничтожить архив Миллеса. Но случайно коробка с полуиспорченными негативами оказалась у жокея Филипа Нора, который рискнул вскрыть этот полный грешных тайн «ящик Пандоры»...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пластик и листки бумаги вообще-то вовсе не были похожи на фотоматериалы. Это были просто кусок пластика и бумага.
Если там и были скрытые изображения, то я не знал, как их проявить. Но если там ничего не было, то зачем Джордж хранил их в светонепроницаемом конверте?
Я сидел, растерянно пялясь на немой черный пластик, и думал о проявителях. Чтобы проявить изображение на определенном типе бумаги или пластика, в каждом случае нужен свой проявитель, подходящая смесь реактивов для определенной цели. Все это означало, что, даже если я буду знать марку и тип пластика и двух листков бумаги, дальше я не продвинусь.
В задумчивости я отложил черный конверт в сторону и взял полоску слепых негативов, у которых, по крайней мере, не было уже изначальной чувствительности к свету. Они были проявлены. Выглядели негативы так, как будто после проявки на них не осталось скрытых изображений, которые можно было бы выявить.
Это были тридцатипятимиллиметровые цветные негативы. Их было много. Некоторые были просто черными, остальные — пустыми с неровными пурпурными пятнами тут и там. Негативы были в пленках, в основном по шесть штук на пленку. Я сложил их все в одну линию и сделал первое интересное открытие.
Все пустые негативы были с одной пленки, а с пурпурными пятнами — с другой. Номера кадров наверху в каждом случае шли непрерывно от единицы до тридцати трех. Две пленки, в каждой тридцать шесть снимков.
Я знал тип этих пленок, поскольку каждый производитель по-разному размещает номера кадров, но это было неважно. Важно было само содержание негативов.
В то время как слайдовые пленки — диапозитивы — получаются в привычных глазу цветах, негативы получаются в дополнительных, и, чтобы снова получить истинные цвета, необходимо сделать отпечаток с негатива.
Основными цветами спектра являются синий, зеленый и красный. Дополнительными, как они проявляются на негативе, — желтый, пурпурный и бирюзовый.
Потому негативы могут показаться смесью желтого, темно-розового (пурпурного) и зеленовато-голубого (бирюза). Кроме того, чтобы получить хороший белый цвет и блики, все производители придают своим негативам общий бледно-оранжевый оттенок. Потому цветные негативы по краям всегда чистого бледно-оранжевого цвета.
Оранжевый фон также маскирует желтые участки, так что они видны глазу не как желтые участки негатива, а как оранжевые.
Негативы Джорджа Миллеса были чисто бледно-оранжевыми.
“Предположим, — подумал я, — что под оранжевым прячется желтое изображение, которого сейчас не видно. Если я сделаю отпечаток с негатива, желтый цвет превратится в голубой. Невидимое желтое изображение превратится в совершенно четкое голубое. Стоит попытаться”. Я пошел в проявочную и смешал реактивы для проявки, затем установил устройство для обработки цветных пленок. То есть полчаса придется ждать, пока встроенный термостат разогреет бани для различных реактивов до нужной температуры, но потом отпечатки будут автоматически передаваться внутри закрытого устройства из одной бани в другую с помощью роликов. Каждому листку фотобумаги, для того чтобы пройти от входа до выхода, понадобится семь минут.
Сделав контрастные фотографии, я почти сразу же обнаружил, что под оранжевым цветом действительно прячется голубой. Не голубое изображение — просто голубой фон.
В цветной печати столько вариантов цветов, что искать изображение на пустом негативе все равно что гулять в лесу с завязанными глазами. И хотя в конце концов я распечатал каждый негатив отдельно, изощряясь всеми способами, какие только были мне известны, я достиг лишь частичного успеха.
Действительно, я получил тридцать три голубых прямоугольника, увеличенных в пять раз — до четырех дюймов — и распечатанных по четыре штуки на лист, и еще тридцать шесть с зеленоватыми пятнами тут и там.
“Единственное, что можно сказать, — подумал я, промывая их в проточной воде, — так это то, что Джордж не стал бы делать семьдесят два снимка голубого прямоугольника просто так”.
Я высушил несколько снимков и пристально рассмотрел их, и мне действительно показалось, что на некоторых из них я заметил слабые более темные отметины. Ничего толком не разглядишь, но все же что-то есть.
Когда же до меня дошло, что именно сделай Джордж, было уже поздно, и я слишком устал, чтобы начинать все сначала. Я вымыл кюветы и все остальное и пошел спать.
На следующий день рано утром позвонил Джереми Фолк и спросил, не ездил ли я к бабке. Я сказал, дайте мне время, а он ответил, что оно у меня было и не забыл ли я о своем обещании.
— Ладно, — сказал я, — съезжу. В субботу, после Аскота.
— Что же вы делали? — жалобно вопросил он. — Вы ведь могли в любой день на этой неделе туда съездить. Не забывайте, она на самом деле умирает.
— Я работал, — ответил я. — И печатал.
— Из той коробки? — с подозрением спросил он.
— Угу.
— Не надо, — сказал он, а потом спросил: — И что у вас получилось?
— Голубые снимки.
— Что?
— Голубые — значит голубые. Чистые темно-голубые снимки. Сорок семь “В”.
— Что вы несете? Вы что, пьяны?
— Я проснулся и зеваю, — сказал я. — Слушайте. Джордж Миллес навинтил на объектив синий фильтр и направил его на черно-белый рисунок, затем сфотографировал его через синий фильтр на цветную негативную пленку. Сорок семь “В” — самый сильный синий фильтр, который только можно купить, я готов поспорить, что именно им он и воспользовался.
— Какая-то китайская грамота.
— Это миллесская грамота. Это тарамилльщина. Троюродная сестра тарабарщины.
— Нет, вы точно пьяны!
— Да не дурите. Как только я пойму, как расшифровать эту голубизну, и сделаю это, то в наших руках окажется еще одна увлекательная штучка Миллеса.
— Я серьезно говорю вам — сожгите все это!
— Ни в коем разе.
— Вы думаете, это все игра? Это вовсе не игра!
— Не игра.
— Ради Бога, будьте осторожны.
Я сказал, что буду. Такие вещи легко говорить.
Я отправился в Сомерсет на Уинкантонские скачки, где скакал два раза для Гарольда и три — для других владельцев. День был сухим, с резким ветром, от которого слезились глаза, и слез этих даже размах скачек унять не мог, поскольку хозяева всех лучших лошадей отказались от участия и вместо этого отправились в Ньюбери или Аскот, оставив шанс неумелому большинству. Я пять раз неуклюже проделал дистанцию в целости и сохранности, и в скачке для новичков, после того как все остальные попадали друг через друга на первом же препятствии, вдруг обнаружил, что финиширую в гордом одиночестве.
Маленький худенький тренер моего коня приветствовал нас широченной улыбкой, с полными слез глазами и синим носом.
— Господи, парень, здорово! Господи, чертовски холодно. Поди взвесься. Не стой тут. Господи, как же повезло, что все остальные попадали, правда?
— Вы прямо конфетку вышколили, — сказал я, стаскивая седло. — Прыгает просто здорово.
Улыбка у него расплылась чуть ли не до ушей.
— Господи, парень, если он будет прыгать, как сегодня, он обставит Энтре! Иди внутрь. Иди.
Я ушел, взвесился, переоделся, взвесился, снова скакал, возвращался и взвешивался...
Давным-давно все это было для меня новым, и мое сердце бешено колотилось, когда я шел из раздевалки к парадному кругу, или когда легким галопом выезжал на старт. Но после десяти лет такой жизни мое сердце билось чуть быстрее обычного лишь на скачках вроде Больших национальных и прочих в таком роде, да и то если у моей лошади были достаточные шансы. Былое буйное возбуждение сменилось рутиной.
Дурная погода, долгие поездки, разочарование и травмы поначалу воспринимались как часть работы. Спустя десять лет я стал понимать, что это, собственно, и есть работа. Рекорды, победы — это уже награда. Излишества.
Орудием моего ремесла были любовь к скоростям и к лошадям, и способность сочетать эти два чувства. А также крепкие кости, умение пружинить при падении и способность быстро выздоравливать, когда хорошо упасть не удавалось.

























