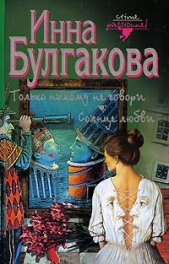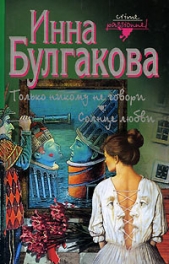Последняя свобода

Последняя свобода читать книгу онлайн
Над компанией веселых обеспеченных молодых друзей плывет запах миндаля. Запах смерти…
Кто же совершает убийство за убийством? Кто подсыпает цианистый калий в дорогой коньяк? Почему то, что должно символизировать преуспевание, становится знаком гибели?
…Она — одна из обреченных.
Единственная, решившаяся сопротивляться.
Единственная, начавшая задавать вопросы, от ответов на которые зависит слишком многое. Даже ее собственная жизнь…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я старался (Коля уже отбыл в Голландию), наводил справки в моргах и сумасшедших домах, давал объявления в газеты, однажды разорился на телевидение… За два года пришло три письма. Зачин и концовка в них повторялись с маниакальной аккуратностью («Посылаю тебе… остаюсь навеки…»). Середина варьировалась. «Душа твоя черна, и остро лезвие. Ты его точил и точил, помнишь?» — это из второго, которое я получил в подарок к прошлому дню рождения, после чего рванул в Ялту. «Какой тяжелый серый камень, ты помнишь? Все помнишь? Тяжелый, серый», — третье письмо пришло сегодня. А утром я нашел коричневую тетрадь в своем сундучке. Она лежала среди рукописей, но два года назад ее там не было.
Дрожащими руками раскрыл, перелистал. Три последних страницы — финальная сцена убийства — были аккуратно вырваны.
Глава 3
Сегодня мне исполнилось сорок пять — и состоится полный сбор. Сбежать, как прошлым летом, не на что — инфляция — и некуда (Крым — ку-ку). А главное: приезжает в отпуск сын. Точнее, уже приехал вчера вечером в Москву и позвонил мне. Я объявил сбор и прибрался в двух клетушках на чердаке, где обычно летом жил Коля (туда ведет наружная лестница). Не поднимался я в мансарду с позапрошлого года — застоялой пахнуло пылью — прахом и тленом — и воспоминаньями.
Сейчас смотрю на скорбный список и размышляю. В прежнем состоянии остался Василий: горит на работе, больные его очень любят, и он любит их. «Румяный критик мой» внезапно разбогател и открыл собственное издательство: у него личный шофер, и мадам Горностаева ходит в соболях. А бывший ученик («учеником» его иронически прозвал Коля, так и осталось) Юрочка стал «мистиком», пропадает по монастырям, со мной общается крайне редко и снисходительно. Однако до сегодняшнего визита снизошел. Все снизошли и обещались, включая правнучку. Она учится в аспирантуре.
На днях ко мне заглянул Гриша и сделал лестное предложение: издать двухтомник моей неизданной прозы. Теперь ведь все можно. Я пересилил тоску и отвращение к жизни и принялся перебирать бумаги в сундучке — старинный, бабушкин еще, стоит у меня в кабинете.
Не раз за эти годы мелькала мыслишка — восстановить украденную рукопись; в сущности, я помнил текст почти дословно. И ничего не писал, ничего, словно боялся, что выдохнется драгоценное вино, плотно закупоренное (для меня, конечно, драгоценное; насчет читающей публики отнюдь не уверен). На самом деле боялся я этого проклятого романа. По монастырям я не езжу, зато остро чувствую внутреннюю связь всего со всем: не сделал ли лукавый старик меня своим наследником (не в материальном, к сожалению, смысле, а в духовном)? Не перешла ли ко мне его ноша? Во всяком случае, я потерял жену и тот дар, что зовется вдохновением.
Раскрыл тетрадь, взглянул на последнюю уцелевшую страницу — и кульминация убийства восстала так живо и чувственно, так ярко… Я пролил кровь — но в воображении, черт возьми! За что? Точилось лезвие, но вода ничего не смыла, а придавил тяжелый камень.
Стоп! Никакой истерики!
Я вышел на терраску в пекло. Возле «белого налива» стояла Мария в красном полупрозрачном платье… ну, и на мне не хламида, одет подобающе. Я смотрел, как сверкают темным золотом глаза ее и волны волос — отвращение и тоска усиливались. И тут подошел ко мне сын — элегантный корректный европеец. Но, поколебавшись, поцеловались троекратно.
Потом и остальные подобрались. У Горностаевых дача тут же в Кукуевке, Василий и Юра прибыли из Москвы. Засели по обычаю в беседке, в сквозной трепещущей тени шиповника — я чувствовал себя чужим среди чужих.
Но они были нужны мне — очень. Кое-какие шаги я уже предпринимал. Например, установил, откуда присылаются письма: с московского Главпочтамта. Пытался сравнить шрифты машинок: пусто-пусто. У Васьки никакой машинки никогда не было, друг и ученик успели сменить, у Марии — праховский древний «ремингтон» — не то. Делал попытки прощупать алиби, но вяло, не надеясь на успех, — успех не состоялся. Однако сегодняшняя находка в сундучке разбудила во мне азарт и ярость. Интересно, что в чопорной невозмутимости сына мне почудились те же симптомы.
Стол без хозяйки не отличался изысканностью и обилием. Заметив, что ученик не закусывает, я простецки положил ему на тарелку кусок колбасы.
— Нет, нет, сегодня среда, — он отодвинул тарелку.
Словно нечестивый язычник, я глядел непонимающе.
— Юрий Алексеевич намекает, что сегодня постный день, — любезно объяснил сын — вот тут-то мне и почудилась скрытая ненависть в его тоне.
Горностаевы хором одобрили постника; Василий ввернул:
— А как насчет водочки?
— Единственный тост в виде исключения.
— Это ты ради меня своей бессмертной душой жертвуешь?
Горностаев поднялся и сказал с чувством, умеренным обычной умненькой усмешкой:
— За то, чтобы фамилия Востоков прогремела по «всея Руси» — далее везде!
Что значило: он меня издаст, а я прогремлю.
— Брось, Гриш. Кому сейчас нужна изящная словесность?
— Изящная — всегда нужна, — долгая пауза. — Ты восстановил тот роман?
— Нет необходимости: я его нашел.
Это был сильный ход — все остолбенели.
— Где? — выдохнул Василий.
— В сундучке среди рукописей.
— Но… — Коля побледнел. — Мы ж с тобой перебрали каждую бумажку.
— Вот именно.
В наступившем молчании Алла прошептала нервно:
— Значит, она сюда приходила.
В веточках шиповника прошелестел, словно соглашаясь, ветерок.
— Любопытно, что три последних страницы вырваны.
Из деликатности никто не упоминал Прахова, но тут Мария впервые подала голос — низкий, волнующий:
— Это где вы дедушку зарезали?
— Вам известно, что я писал про вашего прадеда?
— У вас получился слишком живой образ.
— Простите, что я читал при вас.
— Это пустяки. Не в этом дело.
— А в чем?
Она не ответила, но по мрачному мерцанию золотых глаз нетрудно догадаться было, какие чувства она ко мне испытывает. Весельчак Василий пробормотал:.
— Черт знает что! Ничего не понимаю.
— Марго мне пишет письма.
— Отец, обсудим эту тему позже, хорошо?
Дипломатическая служба быстренько гасит непосредственность юности; может, это и к лучшему. Кому захочется публично обсуждать безумие собственной матери? Но я не верил в ее безумие, потому что не верил, что она жива. И продолжал упрямо:
— Надо посоветоваться, сынок. Я в тупике, а тут все свои.
«Свои» упорно молчали, даже пресловутое женское любопытство не срабатывало. Васька залпом выпил водки, я зачитал письма в их последовательности.
— Леон, это ужасно, — признался брат, несомненно выразив общее впечатление. — В чем она тебя обвиняет?
— Наверное, в том, что я ее убил.
— Да ну тебя! Ты же помнишь, я обошел морги и больницы с фотографией. Где ее держат?
— Наверное, в земле.
— Алла вскрикнула столь дико, что все вздрогнули, — трудно ожидать подобной реакции от милой домохозяйки-садовницы.
— Водки! — скомандовал я.
Гриша трясущимися руками наполнил рюмку, протянул жене, она оттолкнула, забрызгав ему лицо и очки. Какое-то время он так и сидел в «слезах».
— Приношу извинения, — сказала Аленька глухо. — Любое напоминание о смерти и тлении меня шокирует.
— Э, матушка, — откликнулся Василий простодушно, — поработала б с мое… Каждый день покойник.
Четверть века он неутомимо выхаживает подопечных или провожает в последний путь. Это призвание.
— Леон, это розыгрыш, — заявил Гриша, протирая очки. — Марго была женщиной веселой…
— Была?
— …и гордой, — заключил он и отвел глаза.
Любопытная фраза, над ней стоит подумать.
— Да, Гриша, было время — я себя этим утешал. Но розыгрыш, затянувшийся на годы… — я поколебался и выговорил: — попахивает преступлением.
— И совершается наказание, — подхватил Юра на патетической ноте. — За грех. Неужели вы не понимаете?
— Понимаем. Кто совершает?