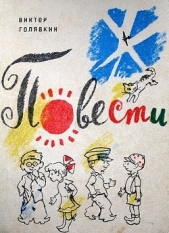Больше не приходи

Больше не приходи читать книгу онлайн
В юности он был то ли полухиппи, то ли полукомсомольским Пикассо. Сейчас он достиг славы, добился признания и сам себя считает "титаном Возрождения". Его любят женщины, его ненавидят мужчины, ему завидуют друзья, обольстительные музы стремятся с его помощью "выбиться в люди". Вокруг него всегда кипит жизнь - богемная и деловая. Для близких он создаёт и рай и ад. Беспощадный характер художника стал причиной трагедии. В усадьбе Мастера совершиось преступление - жестокое и непонятное. Кто убийца? Ведь формальные мотивы были у всех обитателей усадьбы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Зачем он бежал за рыжим мерзавцем так упорно по пустым дворам, по разбитым скользким тротуарам, по засыпанному листвой скверу? Затем, что чувствовал: рыжий не петляет, рыжий перепуган и бежит к норе. Тут героический мент Самоваров и настигнет врага в его логове! Героический мент легко (сколько перебегано в детстве!) мчался по крыше сарая безбоязненно – раз по крыше рыжий пробежал, значит, сарай и его выдержит! Двухэтажные кривенькие дома, трансформаторная будка, жидкие клёники. Кажется, улица Серафимовича. Здесь, что ли, логово?
Стреляли снизу. Он был на крыше, уже один среди увядших небес (куда девался рыжий? и как долго стреляют!) Очередь «калашникова» прострочила его наискосок – от левого бедра до правого плеча. Врачи говорили потом, что если бы очередь двигалась не слева направо, а наоборот, справа налево, четвертая пуля пришлась бы прямо в сердце. Повезло.
Он лежал в больнице сначала семь месяцев, потом еще четыре в госпитале, потом... Те три больничных года он вспоминать не любил: бесконечные операции, реабилитации, чуть ли не ежедневные прощания с жизнью, унижение немощью и толпы таких же, как он, несчастных. Исчезали сначала знакомые, потом друзья. Красивая девушка Наташа исчезла в том же сентябре. Она даже в больницу ни разу не пришла, передала через сослуживцев длинное письмо. Прочел его он много позже, к весне. Тогда он только смог самостоятельно читать. Наташа писала, какой это удар для нее, как она не хочет обижать его жалостью, как ему лучше сразу забыть ее, слабую, недостойную, но, увы, такую обычную и земную. Она уверяла, что любит, что плачет (письмо было сухое, бумага гладкая, почерк ровный, хотя и не слишком разборчивый), что она одна будет изживать свое горе, что судьба, возможно... – и т.д. и т.п. Стало быть, исчезло все сразу. Может, терять так сразу всё и легче, но если учесть, что его родители еще шесть лет назад погибли, разбились, возвращаясь с дачи на своем стареньком «москвиче», то к моменту бумажного плача красивой девушки Наташи у Самоварова не осталось никого.
Нет, остался Стас. И Генка Самойлов. И вообще ребята. Слепцов хлопотал, чтобы Самоварова, заслуженного инвалида, устроили в милицейском архиве. Место, в принципе, было, надо только выгнать наконец на пенсию без малого столетнего старика Гиндина. Старик был знающий, старательный и привычный. Заходя в отдел, Самоваров всегда чувствовал на себе его тоскливый взгляд. Библейские глаза старика и смолоду, как утверждали редкие сохранившиеся очевидцы, выражали неизбывную тоску и укоризну. Но Самоваров принимал природный гиндинский укор на свой счет и перестал хотеть этого места. Заодно перестал и ходить к ребятам.
Он целыми днями сидел один в пустой квартире и строгал деревянные кораблики. Не заводил часов. Часто даже не знал, какое нынче число. Перестал читать детективы. Не любил включать яркий свет, чтобы не видеть свою неуклюже ковыляющую тень. Пробовал пить, но тошно и больно становилось; больно пить, если у тебя уйма швов, не хватает скольких-то метров кишок и селезенки, зато есть протез, как у капитана Сильвера, и какая-то железка в суставе.
Избавление пришло неожиданно в лице соседки Веры Герасимовны. Она дружила еще с матерью Николая, а теперь, жалеючи его, часто забегала, давала какие-то ненужные советы, спрашивала что-то такое же ненужное, чтобы хоть как-то отвлечь его, заставить разговаривать. Ничего ужаснее молчания она не представляла. Сама она обычно не нуждалась в собеседнике, только в слушателе. В свое время Вера Герасимовна работала машинисткой в облисполкоме, выйдя же на пенсию, устроилась на непыльное место гардеробщицей в музей. По большому, говорила, блату.
Как-то – снова была осень, снова мокло, снова падали листья – Самоваров шел из булочной, и еще издали завидев переминающуюся у подъезда Веру Герасимовну, понял, что она дожидается его. Действительно, когда он приблизился, Вера Герасимовна схватила его за рукав и подтащила к скамейке. Они осторожно, соизмеряя движения, сели (доски скамейки оторвались, и севший первым с краю полетел бы кверху ногами; садиться и вставать нужно было одновременно и с соблюдением законов равновесия; все местные это знали).
Вера Герасимовна начала, как всегда, с самой сути:
– Коля, ты нам нужен!
Глаза ее искрились, а седина казалась не грустным отмиранием красок, а какой-то специально сделанной веселенькой подцветкой (раньше она красилась хной, тоже очень весело). Плащ ее был тертым, но вокруг морщинистой шеи увивался немолодой, но очень легкомысленный газовый шарфик. Из-под шарфика пытались выбиться еще и рюши, в которых косо сидела старомодная брошка с потускневшими стекляшками. Розовая помада, блеск в глазах – все это было свежим и молодым.
– Я нужен стране или человечеству? – уныло спросил Самоваров.
– Коля, какой ты кислый! – возмутилась Вера Герасимовна. – Ты нужен нам, музею!
– В отдел чучел и мумий? Взамен экспоната, пострадавшего от недовложения нафталина?
– Фу, как ты глупо и не смешно шутишь. У нас уволился реставратор мебели, и я рассказала о тебе.
– Что можно обо мне в смысле мебели рассказать?
– Что ты прекрасно столярничал еще с отцом, вон в том сарайчике. Что ты запросто чинишь любую мебель. Что у тебя высшее образование. Что у тебя, наконец, золотые руки и золотая голова!
Самоваров поморщился: Вера Герасимовна любила трескучие газетные фразы. Он почему-то вспомнил себя маленьким, а ее такой же бодрой и восторженной. Вот она врывается в их квартиру, тычет матери какую-то газету и хохочет: «Нина! Нина! Ты еще не видела? Как? Нет, ты обязательно должна прочитать! Очерк Татьяны Тэсс!» Его очень тогда заинтересовала эта Татьяна Тэсс. Воображение живо рисовало нечто дивное.
– Это редкая возможность, Коля, – тараторила Вера Герасимовна. – Все уже настроились. Я сказала, что ты завтра придешь. Коллектив у нас небольшой, хотя в основном женский, и...
– Постойте! Ведь я ничего не смыслю в реставрации! Это же не табуретки сколачивать!
– Да то же самое! И ты умница, подучишься. Работы пока не так много. Решено: завтра ты идешь со мной...
– Не пойду.
Он все же пошел, рассчитывая как можно вежливее отказаться. В музее было блаженно тихо. Старинный особняк, негромкие шаги, сладкий, чуть затхлый запах старой спокойной жизни. Николай стоял на чугунных ступенях-вафлях служебной лестницы и слушал, как где-то мирно и невнятно переговариваются женские голоса. Вдруг над его головой с гудением и хрипом забили большие, очень врущие часы, бывшие губернаторские. Ему казалось, что все это он раньше уже видел во сне. Есть сны, в которых так хорошо, что жалко просыпаться. На этот раз проснуться или остаться во сне было в его власти, и Самоваров остался. Ему стало очевидно, что жизнь все-таки умеет улыбаться. Со стен, из золоченых рам, сквозь стеклянную желтизну лака, сквозь вуаль трещин ему улыбнулись давно жившие дамы. И мраморный Морфей в венке из мраморных маков, похожих на оладьи, тоже улыбнулся ему отбитой и приклеенной губой. Зато мебельная мастерская не улыбалась и была явно чужой. Всякая вещь здесь была прокурена до сердцевины, оконные стекла пегие, над столом громадный плакат с глянцевитой девицей в купальнике. У девицы была на редкость гадкая улыбка, а устройняющие и удлиняющие ноги вырезы купальника доходили до подмышек, так что казалось, лобок у красавицы полуметровый. Самоваров вымыл, вычистил, выдраил все, что мог, и в окна мастерской наконец смог глянуть веселый музейный дворик. Инструменты засверкали, а место девицы, корчившейся теперь в мусорной корзине, заняла кранаховская Сибилла Клевская со старого немецкого календаря. Новая жизнь началась.
Это все было семь лет назад. Самоваров с тех пор сделался недурным реставратором. Привык к музею и своей в нем незаменимости. Снова стал читать детективы. И даже начал коллекционировать самовары (первый был подарен музейщиками на именины в шутку, под стать его фамилии), и даже преуспел в этом, потому что стали исчезать в центре Нетска старозаветные особнячки, а на их месте с шулерской быстротой являлись причудливо-неуклюжие жилища новых русских. Руины особнячков сулили добычу. Самоваров бродил по развалинам, рылся на свалках, и коллекция составлялась. Постепенно он сблизился с другими коллекционерами, вполне разделил их нравы и страсти и стал замечать, что превращается из самонадеянного мальчика, каким он еще долго внутренне оставался даже после катастрофы близ Нижнего рынка, в безобидного провинциального чудака неопределенного возраста. Вера Герасимовна считала, что ему не хватает только утешительной женитьбы, и взялась изо всех сил подыскивать ему невесту. Самоваров, как большинство чудаковатых холостяков, не вполне отвергал самую идею брака, но представления о том, как это может быть, у него и Веры Георгиевны существенно разнились.