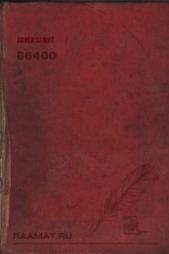Блондинки начинают и выигрывают

Блондинки начинают и выигрывают читать книгу онлайн
Как славно иметь двойника, который сделает за тебя всю грязную работу! От такой возможности откажется только глупец, а уж Александр ни за что не упустит свой шанс — ведь на удивительном сходстве со случайным знакомым можно хорошо сыграть. И вот уже разработан блестящий план, все готово для решающего хода, но… неожиданно вмешивается третье лицо, и теперь исход поединка непредсказуем.
* * *В игру, ставка в которой — жизнь, вступают двое, и со стороны кажется, что они заодно. Но на самом деле они сражаются друг против друга. И тогда Александру, преуспевающему менеджеру, приходится побывать в шкуре нищего, разработать многоходовую комбинацию, где замешаны иностранные банки, тайные счета, грандиозные планы, любовь, ненависть и большие деньги. Но есть еще третий мастер тайных ходов и запутанных комбинаций. Кто он? Мужчина или женщина? Никто не знает, чем закончится эта опасная игра…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А переселились когда, боже!.. Я только головой качала. Что за, думаю, отребье к нам понаехало! На ней — драное пальтишко из бабушкиного драпа, сама крошечная, носик пуговкой, глаза как серые английские булавки — не женщина, а чистое недоразумение. А супруг еще задрипаннее нашего алкоголика Витюхи показался. Долговязый, тощий — ну чисто Дуремар. Это уж потом он в тело вошел, как клоп, насосавшись трудовой рабоче-крестьянской крови.
Тогда никакой в нем солидности не наблюдалось, лысины тоже, и детей ни одной штуки. Потом уж, через несколько лет, гляжу, развернулись, прочухали, что к чему. Вторую, смежную квартирку у Циперовича прикупили, соединили их в одну, ремонт забабахали такой, что полгода стены ходуном ходили, так что я уж и спать без молитвы не ложилась, каждую секунду ждала неминуемого свержения с третьего этажа на первый.
И вскоре все у них образовалось самым приятным образом. Мебелишку приобрели всю золоченую, в виньетках, гобелены со сценами из пейзанской жизни. А портьеры — не просто тряпка какая на окне висит, а с бахромой и кистями и с красивым изгибом материала, как в сериале. Все это я разглядела в тот единственный раз, когда к ним в гости заскочить удалось.
— «Скорую», — прошу, — вызовите, не ровен час, помру от стеснения дыхания в сердечной области.
Та стрикулистка мигом кинулась телефон накручивать.
— Присаживайтесь, — говорит, — пока… — И так нервно на часики посматривает.
— Что это, милочка моя, у вас какая-то кудрявость у мебели повышенная? — спрашиваю слабым голосом, возвышаясь на креслице в прихожей в обнимку с валокордином.
А она мне елейным голоском:
— А это стиль рококо, Варвара Ферапонтовна, называется. Ныне очень модно.
Я аж чуть валокордином не захлебнулась. Модно, ишь ты! Раньше за такие «кококо» пятнадцать лет с конфискацией давали!
— А сколько, милочка, ваш камин дров жрет? — спрашиваю слабо, как бы постепенно кончаясь.
— Нисколько, — отвечает, — он электрический, для релаксации сделан. Что-то «скорая» долго едет…
В санузел ихний мне тоже удалось проникнуть. Как она на меня зло ни зыркала, как ни старалась поскорее выпроводить восвояси, я будто по слабости пальцев на себя валокордин расплескала и попросила дозволения руки сполоснуть.
Пустили и в ванную. Мамочки мои! Все блестит, все переливается, как на борту космического корабля! Не знаешь, какую ручку крутануть, чтоб не взлететь куда-нибудь на внеземную орбиту.
Ну, я там все подробнейшим образом обсмотрела. Все баночки с кремом проверила, духи иноземные нюхнула, шампуньку взболтала. Даже одно мыльце крошечное в карман пихнула. У них этого добра невпроворот, а мне позарез надо, у меня нету. Правда, потом оказалось, мыльце-то для собак, чтоб, значит, блох выводить, но пахнет ничего, как в рекламе. А мне-то что, мне это даже безразлично. После этого блохи до-олго меня кусать опасались.
Короче, очень тогда мне у них понравилось! Только собака ихняя меня на прощанье так облаяла, что даже левое ухо заложило. Хотела я за это на них в суд подать, но потом само по себе отлегло, а добрососедские отношения иногда дороже здоровья, я так считаю. Да и собака их вскорости добровольно отправилась в мир иной, лучший.
Потому, когда слух-то пронесся, что этот самый Рыбасов отправился в мир иной в белых тапочках, я, честно говоря, даже слегка обрадовалась. Ага, думаю, вот и твоя очередь, голубчик, дошла! Все там будете, один за другим, как по цепочке. Потому что есть мировая справедливость, есть! Это еще не то Карл Маркс, не то Лев Троцкий сказал.
Слухи, конечно, в нашем доме просто так, сами по себе не распространяются. Как же, дождешься от них, этих нынешних жильцов, чтобы они когда своей бедой с простым народом поделились. С милицией и то не всегда делятся, а тут что уж говорить…
Только гляжу это я, что-то мой соседушка запропал. Нету его что-то нынче утром. То каждый божий день под моим окном своим бронетанком — «др-др-др, др-др-др», а то все тихо. Другие — те по-прежнему «др-др», а этот — нет. Взволновалась я.
Подождала Ирочку Рыбасову, когда она с детишками домой возвращалась, и спрашиваю так ласково:
— А что же наш Александр Юрьевич не появляется? Никак опять в командировку уехамши?
— В командировку, — отвечает.
А глаза пу-устые, душемотательные…
А потом он уж сам появился. Видно, досталось ему крепко в этой «командировке». Так досталось, что его прямо как подменили. Понял, что не все коту масленица. Теперь он передо мной заискивает. Каждое утро, проходя мимо лавочки, остановится и обязательно спросит:
— Как здоровьечко, Варвара Ферапонтовна, ничего?
— Ничего, — отвечаю, — плоховато. По вечерам в правом боку точно иголкой колет, а под утро левую руку как схватит, как закрутит, прямо спасу нет. Хоть в гроб ложись добровольно-принудительно.
— Берегите себя, Варвара Ферапонтовна, — улыбается тот в усишки.
— Да я и так берегусь, прямо сил моих больше нет, — отвечаю.
Вот так и беседуем… Хоть и не богатый разговор, а все на душе светлей.
Да и женушка его тоже ко мне будто оттаяла. И тоже здоровьем интересуется. Раньше у нее в глазенках все какая-то подспудная тревога шебутилась, будто тайная грызь ее поедом ела, а тут она такая спокойная стала. Странно даже, с чего это такая метаморфозность с ней приключилась? Вся прямо светится изнутри, точно за глазами стосвечовую лампочку вкрутили. Или, может, это к старости зрение у меня совсем ослабело? И то, мил-человек, вот уже и в телевизоре Лусию от Фелисии с трудом отличаю…
Ну, думаю-гадаю, что ж такое? Никак у них все на лад пошло? Уж я к ихней двери и так, и эдак, и ухом приложусь, а все — тихо!
То ли, милый мой, слух меня совсем подводит, то ли они дверь еще одной звукоизоляцией обили. Тут, прямо скажем, есть об чем задуматься.
Хоть и стара я стала, дружок, однако ж много чего интересного еще вспомнить способна. Да ты заходи, заходи на досуге ко мне покалякать. Я, может, еще чего припомню. Заходи почаще. А то больно скучно одной-то целыми днями сидеть. Так скучно, что даже в боку колет и во всем теле точно онемение какое образовывается. Не знаешь, к чему это?..
Вот и я не знаю…
Тот день, когда началась эта история, помню прекрасно. Помню место, где произошла та самая историческая встреча. Помню костюм из тонкой итальянской шерсти, сидевший на мне как влитой, но в котором неожиданно стало томительно душно, несмотря на октябрьскую затяжную морось и влажное мигание слабого солнца в серо-жемчужном небе.
Вас интересует точное место действия? Извольте, Таганская площадь, Воронцовская улица, тот самый перекресток, где томится, нервно взрыкивая, поток мокрых машин, готовых очертя голову ринуться в толкучку вечной пробки. Застывший светофор однообразно льет поток красного света, ленивые пешеходы неторопливо волочат подагрические ноги по серо-белой асфальтовой зебре… Время действия — обычное субботнее утро, скучное, мглистое, серое. Туман испуганно отползает в подворотни и проходные дворы, гонимый слабым ветром. Дворовый сквозняк решительно срывает золоченые пятаки листвы и приклеивает их к ветровому стеклу, словно ржавые медали неизвестной державы.
Я сижу на переднем сиденье автомобиля. Скучаю. Повернув голову в сторону, в который раз изучаю табличку на унылой стене, возвещающую мирянам, что возле данного дома, на этом самом месте, в 1917 году наемниками капитала был зверски убит рабочий завода «Динамо» Астахов. Лениво представляю, кто таков был этот зацепившийся в истории Астахов и отчего его расстреляли в таком неинтересном, архитектурно не оправданном месте. Вот расстреляли бы его где-нибудь у Большого театра — совсем другой коленкор был бы, а здесь, на Воронцовской, в окраинном тогда рабочем районе, аккурат возле входа в кожно-венерический диспансер… Кажется, закопченные дома ничуть не изменились за целый век: они все так же подслеповато глядятся в стылое небо, а их заляпанные жиром окна напоминают бельма уличного христарадника. Скучно, господа, когда тебя расстреливают в таком месте! Скучно!