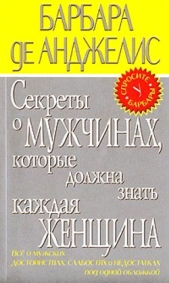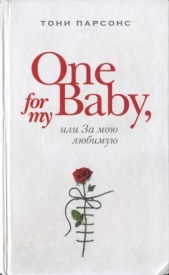Зеленая женщина

Зеленая женщина читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Вячеслав проснулся и осторожно, чтобы не потревожить Майю, потянулся за сигаретами. Он знал, что жена спит, но если тихо-тихо прошептать «Майя!», то она так же тихо, не вздрогнув и не удивившись, прошепчет: «что?»
Между оконными шторами проступала серая муть. Но томление недоспавшего тела, жадная мысль о затяжке убеждали, что скоро вставать.
Без десяти пять. Он вышел на кухню, уселся, запахнув халат, и вдохнул омывающий чувства дым.
Где-то далеко мышиным шорохом в неестественной тишине прошуршала машина.
Утренний туман в голове не сильно ему досаждал, потому что он знал, что даровые, заимствованные у ночи минуты ничего не значат, что он ляжет, когда захочет, и свободен расслабиться в растительном, ни к чему не обязывающем безделье.
Привычная бессонница походила на легкое наркотическое опьянение, а всякое опьянение приносит удовольствие, если ты настроен принимать его как благо, а не как отраву. Не имея большого выбора, Вячеслав приучился переживать этот утренний час как по-своему даже приятное время. Не хватало, пожалуй, лишь кофе, но он не мог позволить себе этого удовольствия часов до восьми, поскольку сознавал характер своего тяжелого и неизлечимого уже, надо полагать, недуга: кофе и сигареты, сигареты и кофе. Некоторая доля самоограничения позволяла спокойнее, без угрызений совести принимать и самый недуг. Нужно было, наконец, как-то ограничивать себя, чтобы получать удовольствие от быстро теряющей вкус табачной заразы и какое-то возбуждение от чрезмерных доз кофе.
Как всякий переваливший через вершину человек, Вячеслав не так уж редко и чем дальше, тем чаще, прикидывал, сколько ему еще осталось. Следовало признать, что сигареты и кофе сокращают естественный срок на десять-пятнадцать лет. Временами он, не особенно еще тому веря, искал в себе признаки старости. Но смерть представлялась ему далеким абстрактным злом, как не вызывающее чрезмерных эмоций несчастье на исходе жизни.
Этот взгляд в бездну, думал он, был возможен для него потому, что имелась вторая, параллельная жизнь в творчестве. Имелось у него второе, отдельное существование, которое развивалось в иной, не подчиненной законам телесной жизни реальности. И, в самом деле, когда перевалишь через вершину, жизнь начинает отнимать. Но творчество все еще прибавляет. Творчество вообще питается верой, что твоя нынешняя или следующая работа будет лучше предыдущей, что сегодня или завтра ты сможешь сказать то, что еще не сказал, но к чему как будто все подступал и подступал. Что именно она, нынешняя или завтрашняя работа, станет твоим высшим созданием, лучшим из всего того, чему ты дал жизнь, отделив от себя часть своего смертного «я». А это есть выражение страстной потребности бессмертия — глубинной, изначальной человеческой потребности, порождающей в конечном счете все самые сильные и самые слабые, все вообще проявления человеческого духа.
Потребность созидания и потребность разрушения происходят из одного и того же источника — из подавленной, загнанной в подполье души потребности бессмертия. Эта потребность порождает любовь, как способ выйти за пределы своего «я», порождает созидание, потребность придумать, построить, посадить, потребность родить детей. Порождает самоубийство как способ показать смерти кукиш, разрушить наваждение ее холодной, не оставляющей человеку выбора власти. Порождает мстительную тягу к разрушению и убийству — чужая смерть как искупление собственного бессилия. Порождает эгоизм и порождает самоотверженность. Туман религии и ясность атеизма. Потребность обнять, охватить собою людей, весь мир, и прошлое, и настоящее, и будущее, жить всемирным существованием и всемирной болью. И потребность замкнуться в скорлупе, отвернуться к стене и закрыть уши подушкой. Или вести обыденное существование, применяясь к общему шагу, чтобы легче было нести свою отдельную ношу. Потребность сотворить свою жизнь и потребность бездумно ее растратить.
Все это одно и то же. Способ. Способ преодолеть ограниченность своего бытия — движением ли, неподвижностью. Способы так далеко расходятся между собой, так мало схожи наружно, что не просто распознать, откуда что идет. Исходная точка одна. А пути, что ж, пути люди выбирают разные. Кому что по силам.
Евгений Пищенко, художник, с которым Вячеслав делал свои первые балеты, не дожив до пятидесяти лет, умер от рака. Уезжая на родину умирать, он остановился в цеху возле своего ближайшего помощника Володи Коктыша — тот ходил по просторному, как лужайка, раскатанному по полу холсту. Макая большую, вроде половой щетки, кисть в ведро с ярчайшей краской, он неспешно прорисовывал круто изогнутый через лужайку хоровод цветов. Пищенко молча смотрел, как работает помощник, потом как бы между прочим заметил: «Когда меня не будет, не трогайте мои задники, ничего. Не переделывайте, не обновляйте. Пусть умирают вместе со мной». По общей своей неразговорчивости Коктыш не нашелся, что и сказать. Только кивнул и подержал над ведром кисть, не выразив даже удивления, хотя ни о каком «меня не будет» до сих пор не задумывался.
Возможно, Пищенко как раз и имел в виду эту философскую молчаливость, когда доверился не товарищу и единомышленнику Колмогорову, а Коктышу, своему помощнику и ученику (в театр Коктыш попал с улицы). Наверное, Пищенко понимал, что Колмогорову бесполезно и говорить, все равно тот не откажется от обновления декораций, если этого потребует сценическая жизнь спектакля, — не позволит декорациям умереть. А если решится перенести балет на другую сцену (уже после первого полномасштабного балета «Сотворение мира» он получил около пятидесяти предложений повторить спектакль в других театрах и от всех, самых заманчивых предложений отказался), — если решится-таки пустить свои балеты по миру, то не остановится перед воспроизведением Пищенковской сценографии. Балеты были их общим детищем, и Колмогоров мыслил категориями эпохи, истории, культуры, то есть такими категориями, которые и самому-то Колмогорову оставляли не много места для прекраснодушных жестов. Это во-первых. И второе, что не менее, а, может быть, и более важно в чисто житейском уже смысле: Колмогоров считал и чувствовал, что смерть не должна мешать жизни. Достаточно смерти того, что принадлежит ей по праву, чтобы она хватала еще и чужое. Спокойный и мудрый человек, Пищенко это понимал. Потому и оставил свое негромкое завещание тому, кто и не возразит, и не исполнит.
То была слабость Пищенко. Тихая жалоба, которую он позволил себе, сознавая близкий и неотвратимый конец. То было смирение умирающего. Смирение человека перед вечностью. Смирение художника перед необозримой громадой культуры, в которой теряется всякое отдельное, личное начало и где даже гений — мелкая рябь океана. Поэтому никогда не воображавший себя гением художник и выражал свое смирение этим скорбным заветом: «Пусть умирает вместе со мной». И в самом смирении черпал гордость. С горделивым равнодушием, с дьявольской гордыней творца, уходя, смахивал он со стола… делал неловкое, беспомощное движение смахнуть всё со стола в корзину. В смирении Пищенко так или иначе был отблеск гордости. А в гордости — видимость утешения.
Десять лет спустя, возобновляя один из ранних и снятых впоследствии с репертуара балетов — «Нос», Колмогоров приказал достать из запасников декорации Пищенко, просмотреть, подшить и подновить краски.
Стойкие, кстати сказать, краски — гуашь на растворе синтетического клея ПВА. Выдерживают пятьсот сворачиваний и разворачиваний и даже такие редкие в художественной практике превратности, как сбрасывание с обрыва. Когда декорации пишут или подновляют в цеху под крышей, их через особые ворота сбрасывают затем на сцену. Туго, до онемения связанные, просвистев жуткую пропасть вниз, они плюхаются со стонущим взрывом. Вставшая пыль не оседает потом два часа…
Смерти не боятся только дети и душевнобольные. Как всякий психически здоровый человек, Вячеслав не любил мысль о смерти. Но отвращение это принимало преображенную через художественный опыт форму: время от времени задумывался он с опаской, но словно бы мимоходом: не умереть бы, не закончив «Кола Брюньона», — нынешней, этапной, как ему верилось, работы.