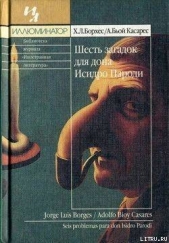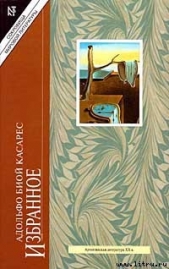Над тёмной площадью

Над тёмной площадью читать книгу онлайн
Психологический детективный роман очень популярного в свое время писателя Хью Уолпола (1884–1941) повествует о событиях одного вечера и ночи накануне Рождества, трагически завершившихся на крыше одного из лондонских театров в ненастную снежную полночь высоко над площадью Пиккадилли.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нет, сказал я, не женат, но не стал объяснять причину. Я начал нести какую-то чепуху, не слишком вникая в то, что говорил. Не вникал и он. Нервы у меня были на пределе. С чего бы? Я не знал. Теперь, возвращаясь к прошлому, я напрягаю свою память, стараясь воспроизвести в уме все, что происходило в течение того получаса, минута за минутой. Как мне кажется, во-первых, я ожидал, что вот-вот на пороге появится Чарли Буллер, а во-вторых, у меня было ощущение, что где-то в квартире за портьерами прячется эта свинья Пенджли.
Нет, конечно, ничего такого не было. Но я не мог избавиться от этого чувства. Мне даже чудилось, что до меня доносится его запах. Пальцы Осмунда нетерпеливо отстукивали дробь по подлокотнику дивана.
— Вообще, последнее время я жил в Вестминстере, — проговорил я неестественным голосом, заканчивая свой рассказ. — Вполне пристойное местечко. Симпатичная хозяйка и приличная еда… Вот такие дела…
— Понятно, — отозвался Осмунд. Он, кажется, уловил только последние мои слова. — Такие дела, Дик, но должен вам сказать, что у меня дела паршивые. Да, паршивые мои дела. Постойте, вы ничего не слышите?
Он поднял руку. Признаюсь, я слышал только, как бьется мое сердце. А оно колотилось так громко, будто у меня вместо него были большие стенные часы с маятником.
— А что я должен слышать? — спросил я наконец.
— Толпу, — ответил он.
— Толпу? — тихим, неуверенным голосом переспросил я его.
— Да, толпу, — нетерпеливо повторил он. Быстрым движением он вскочил на ноги, подошел к окну и распахнул его. — Теперь слушайте, — сказал он.
До нас доносился многоголосый гул площади. Это было похоже на шум моря, ритмически нарастающий и стихающий, — шур-шур, шур-шур, шур-шур… И в этот шум врывались гудки автомобилей, выкрики мальчишек, продававших вечерние газеты, приглушенный колокольный звон церквей; а мне еще слышалось чье-то тихое жалобное причитание, словно там, в темноте, стонало и плакало какое-то огромное существо.
Он захлопнул створку окна, вернулся ко мне и встал передо мной.
— Вот видите! — закричал он. — Вы этого не слышите, когда окна закрыты, а я слышу, слышу днем и ночью, днем и ночью. Для меня этот шум никогда не прекращается.
— Тогда зачем здесь жить, если это вам так мешает? — спросил я. — Много спокойных, тихих улиц.
— Да какая разница, — ответил он, — везде будет одно и то же. Только представишь себе — и уже понимаешь, что там то же, что и здесь. У всех одинаковые мысли, все делают то же, что все, и все они грязные, больные и занимаются только любовью, насыщают свои желудки, пьют, спят… — Он замолк, но тут же заговорил снова: — Не сочтите, что я сошел с ума. Ничего подобного. Но в тюрьме мое отношение к толпе окончательно закрепилось. Я ощущал подобное и раньше, но до некоторой степени. Когда я был ребенком, мне думалось: почему люди не могут быть красивее, не размышляют о том, как они живут, все им безразлично? Почему не избавятся от прощелыг и подлецов? Как просто — взять их всех и бросить в газовую камеру… Я и сам подлец, конечно, и заслуживаю физического уничтожения наравне с ними. Но я вполне готов к этому, и если бы нашелся кто-то… — Он осекся, замолчал и улыбнулся мне своей завораживающей улыбкой, как, бывало, в прежние времена. — Ну разве я не осел, Дик? Всегда был ослом, даже тюрьма меня не исправила. Как вы можете со мной общаться, просто удивительно.
— Совсем не удивительно, — сказал я. — Но вот чего я не могу понять. Если вам здесь так плохо, зачем вы забились в эту квартиру и живете среди этого шума и гама?
— Видите ли, — ответил он, кивнув головой, — у меня было желание от всех скрыться. Поначалу, выйдя из тюрьмы, я попытался жить в деревне. Но там обо мне все было известно, и я чувствовал себя так, будто я болен чумой и меня все сторонятся. Уехал в Испанию. Там было довольно спокойно. Прекрасная страна, прекрасная… И все же там я чувствовал себя в изгнании. Стремился домой. Мне в голову приходили самые невероятные мысли, чего я только не воображал. А потом я все-таки записался в армию, изменив фамилию. В то время им так нужны были мужчины для пополнения ее рядов, что меня даже не спросили, не был ли я в тюрьме. Два года воевал во Франции. Пули меня не брали. Ни разу не был ранен. Рад был бы умереть, но меня словно заколдовали. Я был обречен жить. В восемнадцатом году вернулся домой. Знал, как мне будет плохо, что снова начну терзаться, и решил побороть в себе эту мою уязвимость. Иногда мне это удается. А иногда — нет…
Таков общий смысл его слов, примерное воспроизведение чувств, стоявших за ними. Точность — трудная задача. В его излияниях было столько трогательного, хватающего за сердце. Тут и смятение, и растерянность, но буквально во всем, что говорил Осмунд, ощущалась внутренняя сила и решимость.
Он многое объяснял чувствами и нервами, и, слушая его, я понимал, что его нервная система была на пределе; переполнявшие его эмоции рвались наружу, как закусившие удила (кажется, я запутался в метафорах)… возникни любая драматическая, критическая ситуация — и его не удержать. Но это не было бы для меня неожиданностью. То, что он говорил о толпе, о своих ощущениях, звучало искренне. И все же за этим скрывалось что-то еще — беспокойство, связанное с какими-то обстоятельствами, которые все время были у него на уме. Я вдруг почуял, что случайно могу стать невольным свидетелем драмы, готовой вот-вот разразиться у меня на глазах.
Сама обстановка комнаты, где я оказался, должна была укрепить меня в этой мысли. Здесь почти не было мебели. Великолепный секретер с дверцами, живописно украшенными маленькими панелями из белой и красной слоновой кости, длинный обеденный стол без скатерти, три стула с золочеными спинками — и все. На голом запятнанном полу два коврика, рваных и затоптанных, но еще сохранивших красивый золотисто-персиковый цвет; старинная серебряная подставка для Библии или молитвенника из какой-нибудь церкви; два очень старых канделябра. Но особенно странное впечатление производили здесь стены, все в неровных серых и белых разводах, как будто маляры, прежде чем красить, замазали их грунтовкой да так и оставили. На одной из стен висело зеркало в деревянной резной раме, покрытой позолотой изумительного розоватого оттенка, так что сразу можно было угадать в нем старинную испанскую работу. На другой стене был триптих — лиможская эмаль переливающихся глубоких голубых и зеленых тонов. Две стены были голые.
На всем лежала печать запустения. Тут и воздух был затхлый, из чего я сделал вывод, что никто эту комнату давно не убирал. Это тоже показалось мне странным, ведь раньше Осмунд всегда был большим аккуратистом, тщательно следил за своим внешним видом и заботился о том, чтобы и вокруг него все сверкало чистотой. Сделав такое наблюдение, я решил повнимательнее приглядеться к хозяину дома и обнаружил, что и сам он уже не был прежним холеным франтом.
Ворот его пиджака был потерт и несвеж, галстук повязан небрежно и криво, а брюки висели мешком.
Он опять уселся рядом со мной и взял меня за руку.
— Дик, я хочу вам кое в чем признаться. Там, в ящике, — он показал на секретер, — я храню револьвер, постоянно заряженный. И ничего не будет удивительного в том, что в один прекрасный день я перегнусь через подоконник, окину взглядом проклятую площадь и уложу на месте одного-двух человек из толпы. Нет, не думайте, что я безумен, вовсе нет. Это будет с моей стороны своего рода протестом против гонки, спешки, лихорадочного ритма жизни, лязга, грохота и визга, которые царят в современном мире. Дик, этот мир лишен всего, что делало его таким драгоценным для нас, — красоты и покоя; в нем нет места для творчества, самобытности. Люди мечутся, толпятся, как бараны, стараясь протиснуться все сразу в одну дыру в заборе. Дальше будет все хуже и хуже, если кто-то не подаст им пример, не устроит им встряску. Глядите, вон они, ходят и ходят кругами по площади, выделывают разные коленца, кривляются, щерят зубы в глупых ухмылках. И этот гул — он не смолкает ни на минуту. Ночами я лежу без сна и слушаю его. Бум-бум-бум-бум… Шур-шур-шур… Жил когда-то на свете маленький человек, сидел в своей каморке и выпиливал что-то из кусочка дерева или резал по камню, создавая нечто непередаваемо прекрасное… Но его больше нет, он навеки почил, Дик, и никто даже не помнит, где его могила.