Черный треугольник. Дилогия
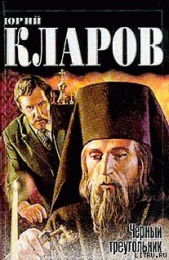
Черный треугольник. Дилогия читать книгу онлайн
Январь 1918 года. Оперативная группа молодой советской милиции расследует ограбление патриаршей ризницы Московского Кремля. В ходе расследования становится известно, что в ризнице хранилась казна одной известной монархической организации. Перед оперативниками нелегкая задача – найти похищенные ценности патриархии, казну и ее хозяев.
В сборник вошли произведения автора «Черный треугольник», «Станция назначения – Харьков».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Он много слышал о вас, – сказала Драуле.
Вот это уже, пожалуй, было ни к чему.
– От кого? От Муратова?
– Нет, от настоятеля Валаамского монастыря.
– Архимандрита Димитрия?
– Да, архимандрита Димитрия.
Ну конечно же Жакович посещал Олега Мессмера на Валааме. Это с его легкой руки отправился в свое рискованное путешествие монах Афанасий, умерший во славу Ванды Ясинской в Омской тюрьме. Видимо, тогда же, весной восемнадцатого, только что приехавший на Валаам Димитрий и беседовал с Жаковичем. Могли они встретиться и в Петрограде. Какое это, в конце концов, имеет значение?
О самоубийстве Василия Мессмера Димитрий тогда еще не знал, но он находился под гнетом московских событий.
Что же он говорил Жаковичу обо мне?
Я вспомнил нашу последнюю встречу в кабинете начальника уголовно-розыскной милиции, где я в тысяча девятьсот восемнадцатом организовал для депутации Соборного совета выставку найденных сокровищ патриаршей ризницы.
Густой запах мира, серебряные алавастры, старинные кадильницы, споротые с саккосов и мантий золотые колокольчики-звонцы, потиры времен Валентиана III и сгорбившийся в глубоком кресле седовласый старик-Димитрий, в прошлом самый любимый преподаватель нашей семинарии, Александр Викентьевич Щукин…
Длинные пальцы архимандрита перебирали янтарные четки, и он цитировал из Экклесиаста: «Что было, то и будет, и что творилось, то и творится. И нет ничего нового под солнцем. Бывает, скажут о чем-то: смотри, это новость! А уже было оно в веках, что прошли до нас».
Спор наш еще не окончен и вряд ли когда завершится. Димитрий хотел тогда укрыться от кровавых бурь времени за стенами Валаамского монастыря. Но ему это не удалось, да и не могло удасться. Ни от времени, ни от самого себя за стенами не спрячешься. Жив ли он? Я всегда считал, что вовремя умереть гораздо важнее, чем вовремя родиться.
Димитрий и Жакович, беседующие о Косачевском, – забавно!
– Шидловский, видимо, слышал обо мне не только от Димитрия, но и от Кореина?
– Да – подтвердила Драуле.
– Они дружили?
– Товарищ Шидловский очень высоко ценил мысли Кореина о превращении искусства в религию свободного человечества и помогал ему в организации музея изящных искусств. Но потом они разошлись…
– Вон как?
– Товарищ Кореин очень плохо поступил. Очень недостойно поступил, – скорбно объяснила она, прижав к груди идеально вычерченный треугольник подбородка.
– А что он сделал, если не секрет?
– Это не секрет. По его вине в Харьковской каторжной тюрьме погиб один молодой товарищ.
– Галицкий?
– Да, Борис Галицкий. Вы его знали?
– Немного.
Если бы Эмма Драуле работала агентом третьего разряда в бригаде «Мобиль», я бы объявил ей благодарность в приказе. Но ни Муратов, ни она у нас не числились и даже не претендовали на имеющиеся вакансии. Поэтому, выслушав ее рассказ о происшедшем, я ограничился рукопожатием.
Похоже было, что розыски сокровищ «Алмазного фонда» не только выбрались из тупика, но и успешно приближались к своему завершению. В этой мысли я еще более укрепился после состоявшейся на следующий день беседы с найденным через Центральную комиссию по расследованию белогвардейских зверств Народного комиссариата юстиции Украины бывшим заключенным Харьковской каторжной тюрьмы Константином Ивановичем Матвеевым. Когда при отступлении белых из Харькова часть заключенных была расстреляна, а остальных погнали на Змиевское шоссе, Матвееву удалось бежать. Теперь он работал в ЦЕПТИ – Центральном правлении тяжелой индустрии Украины.
В течение семи дней Матвеев находился в одиночке рядом с Галицким и перестукивался с ним через стенку.
– Простите за нескромный вопрос, – сказал он, когда мы с ним наконец нашли укромный уголок в одном из коридоров Центрального правления тяжелой индустрии. – Вы сидели когда-нибудь в тюрьме?
– Да, при царе.
– Тогда вы понимаете, что такое связь с товарищем, от которого тебя отделяет тюремная стена. За это время мы с Галицким сблизились, хотя ни разу не видели друг друга. Он мне рассказывал про свою мать в Тобольске, про жену…
– Он разве был женат?
– Да, ее звали Еленой. Он очень беспокоился за нее. Но это лирика. Вы меня, конечно, не для этого разыскивали.
Он был прав: знать, что Галицкий перед смертью вспоминал о Елене Эгерт, мне было ни к чему, впрочем, как и ей…
По словам Матвеева, Галицкий вначале даже не сомневался, что его скоро выкупят. Он спрашивал у соседа, не нужно ли тому что-либо передать на волю, и обещал после освобождения вызволить Матвеева из тюрьмы. Галицкий уверял его, что организация, к которой он принадлежит, имеет доступ к сотрудникам контрразведки и располагает ценностями для выкупа своих провалившихся товарищей.
Позднее Галицкий в значительной степени растерял свой оптимизм, но все же надеялся на освобождение. А за два дня до гибели он получил дурные вести: один из товарищей, некто Кореин, оказался предателем, и теперь его, Галицкого, ждет смерть. Тогда же Галицкий получил письмо от самого Кореина. Тот пытался оправдать свое предательство особыми соображениями и просил Галицкого простить его.
Матвееву рассказывали, что, когда за Галицким пришли в камеру, он кинулся на офицера комендатуры и чуть было не задушил его. Офицера спас надзиратель, который выстрелил в смертника из нагана. Тут же в камере конвойные добили раненого штыками.
Матвеев не знал Кореина. Но я знал Кореина достаточно хорошо – это был психически ненормальный человек, не отвечающий ни за себя, ни за свои поступки. Я не мог представить его себе ни идейным анархистом, ни предателем святого дела анархии. И для того, и для другого требовались как минимум не слишком вывихнутые мозги.
Корейшу точно так же нельзя было назвать предателем. Как свалившийся на голову кирпич – убийцей. Но то, что Жакович-Шидловский после гибели Галицкого порвал с Кореиным всякие отношения, а сам Галицкий называл его предателем, давало пищу для размышления. Заслуживало внимания и упоминание о письме Кореина, в котором тот «пытался оправдать свое предательство какими-то особыми соображениями и просил Галицкого простить его». В сочетании с тем, что Кореин в ноябре девятнадцатого при каких-то скандальных обстоятельствах покинул ставку Махно и его разыскивала махновская контрразведка, все эти факты приобретали значение и могли лечь в основу некой достаточно убедительной гипотезы. И все же эту гипотезу я выдвинул лишь после обстоятельной и поучительной беседы с импозантным седобородым мужчиной, напоминавшим мне архиепископа Антония Храповицкого.
Несмотря на внушающую благоговение внешность, хорошо сохранившийся старец никогда не был священнослужителем, хотя переменил на своем веку немало профессий.
Феофан Лукич Севчук служил сторожем, опилочником в трактире на Клочковской, вышибалой в фешенебельном публичном доме, конюхом, лакеем, а последние годы – швейцаром вначале в Коммерческом клубе на Рымарской улице, а затем в особняке фабриканта Бригайлова, где снимал квартиру полковник Винокуров. На этой же квартире полковник в ноябре девятнадцатого был убит…
После освобождения Харькова Красной Армией, когда особняк Бригайлова был занят под рабочий клуб, старик собрал в швейцарской свои вещички и исчез. Сухов, занимавшийся розысками старика еще до моего приезда, ухитрился отыскать его на станции Новая Бавария, где тот обосновался в домике у своего сына, железнодорожного рабочего.
Жизнь на маленькой, тихой станции Феофану Лукичу порядком надоела. Он привык к шуму большого города, к полнокровной, кипучей жизни публичного дома («Ух и мамзели были – тигры! По сю пору в дрожь кидает!»), к пьяному раздолью трактиров и «господской деликатности».
– Всю жизнь, почитай, в образованности прожил – «Пожалуйте, ваше сиятельство!», «Пардон, мадам!» и прочее. А тут на старости годов и выпить не с кем, чтобы по-деликатному, без матерщины или еще чего такого, – доверительно говорил он мне. – Станция – она и есть станция. Пыль да грязь, мастеровщина да необразованность. Не столько людей, сколь блох да тараканов. Оно известно – тоска. С тоски всякая нечисть и заводится. Ну и поезда гудят, будто им шило в зад воткнули. До того гудят, подлые, что не знаешь, чем уши заткнуть. А тут еще колеса – тук-тук, тук-тук. Поживешь так с годок и, не дождамшись смертного часа, живым в гроб на карачках полезешь. Ей-богу!


























