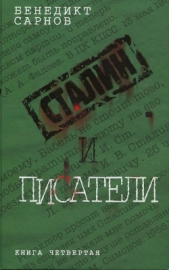Экспансия – I

Экспансия – I читать книгу онлайн
Действие нового романа заслуженного деятеля искусств, лауреата Государственной премии РСФСР писателя Юлиана Семенова развертывается в конце 40-х годов, когда начал оформляться союз нацистских преступников СД и гестапо с ЦРУ. Автор рассказывает о пребывании главного героя книги Максима Максимовича Исаева (Штирлица) во франкистской Испании.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Чем дальше, тем больше матадор нравился Штирлицу; он любил в людях надежность и уважительность к тем, кто от него зависел; Педро смотрел на своих бандерильерос и пикадора влюбленными сияющими глазами; «без вас я ничто, кабальерос, спасибо вам, вы были истинными бойцами, я восхищался вами». Люди за соседними столами щелкали языками: «как сказано! как прекрасно сказано!» Никто так не ценит слово в застолье, как испанцы и грузины. «Сначала было слово» — как же иначе?
Такой парень не подведет, подумал тогда Штирлиц, ему можно доверить письмо, он не станет вскрывать его и не отдаст тому, кто попросит об этом; испанцы ценят доверие; чем больше и открытое доверяешь ему, тем более он верен дружеству, — ведь доверие возможно только между друзьями; я спрошу его, где он остановился в Мадриде, и приду к нему завтра; я запутаю тех, кто может следить за мной, хотя вряд ли, вроде бы я чист, кому я здесь нужен?
Штирлиц присматривался к матадору; он умел смотреть так, что человек не замечал этого; не зря он занимался живописью; взгляд, как удар бандерильей, стремителен, рассеян, и вот уже срисована манера человека слушать (а ведь это так важно, как люди слушают других, за этим сразу встает характер); взгляд — и в памяти навсегда останется манера говорить; взгляд — и ты навсегда запомнишь, как человек ест и пьет, в этом тоже его характер; нет, он положительно нравился Штирлицу, этот матадор.
Педро пил очень мало, ел еще меньше, на вопросы отвечал сдержанно, но очень красиво; в конце обеда подвинулся к Штирлицу:
— Я уважаю вас, немцев. Мой брат сражался вместе с вами в «Голубой дивизии» против красных. Его там убили.
Нет, сказал себе Штирлиц, я не зря ощущал все это время запеленатость; я чувствую опасность кожей; это чувствование стало моим «альтер эго», ничего не попишешь; не оно, конечно же, превалирует во мне, все-таки, во-первых, я логик, и поэтому мне довольно трудно жить, ибо каждый порыв автоматически, как само собой разумеющееся, перепроверяется холодным расчетом, анализом фактов и явлений, иначе нельзя, если бы я жил не так, меня бы давным-давно ждал провал. Стоики утверждали, что из трех элементов — обозначаемое (мысль), обозначающее (слово) и предмет, находящийся вне всего, — главным является обозначающее. Эпикурейцы упростили эту позицию, исключив понятие «обозначающее», вознесли того, кто видит и судит о предмете, выражая ложь или правду словом; эпикурейцы облегчали себе жизнь, они отказывались принимать идею, мысль как явление, существующее вне нас; «я — хозяин мира, я создаю его в своем воображении так, как мне угодно, истина или ложь определяется лишь моим словом»; бедные эпикурейцы, моя работа им бы не подошла, сгорели бы за месяц, а то и быстрее. Впрочем, и стоики долго бы не продержались, примат слова никого до добра не доводил; не слово определяет факты бытия, но именно оно, бытие, формулирует словом правду и ложь; как только слово становится самодовлеющим, как только сознание делается тираном бытия, так начинается шабаш лжи. Я всегда шел за правдой факта, наверное, поэтому и слова находил правильные; я не пытался подогнать жизнь под себя, это невозможно, хотя так заманчиво; жизнь обстругивает нас и заставляет — рано или поздно — следовать в ее русле, как же иначе?! Ладно, будет тебе хвалить себя, подумал Штирлиц, жив еще — и слава богу, думай, что тебя ждет, и похрапывай, чтобы Кемп верил в твою игру: голодное опьянение, развезло, рано или поздно язык развяжется, обмякнешь. Вот и готовься к тому, чтобы размякнуть достоверно. А для этого заставь себя отключиться, ты же умел спать и по пять минут, зато какой свежей делалась голова, какой чистой и собранной, давай отключайся, у тебя еще есть минут десять.
…Кемп положил ему руку на плечо через пятнадцать минут, когда притормозил около старинного красивого дома:
— Мы приехали, Брунн. Как поспали?
— Я не спал ни минуты, — ответил Штирлиц. — Я думал. И у меня чертовски трещит голова. Самое хреновое дело, если не допил. У вас есть что выпить?
— Я же говорил: все, что душе угодно. Дома и я с вами отведу душу, вы-то пили, а я лишь поддерживал компанию, знаете как обидно…
— Знаю. Я тоже поддерживал компанию, когда мне приходилось выполнять свою работу.
— Опять вы за свое… — вздохнул Кемп, пропуская Штирлица в маленький лифт, всего на двух человек, хотя сделана кабина была из красного дерева, зеркало венецианское, а ручки на дверцах латунные, ручной работы, — оскаленные пасти тигров, очень страшно.
Квартира Кемпа поразила Штирлица: в старый испанский дом, с его таинственными темными закоулками, длинными коридорами и громадными окнами, закрытыми деревянными ставнями, была словно бы вставлена немецкая квартира — много светлого дерева, (скорее всего, липа), бело-голубая керамика, баварские ходики-кукушка, хирургически чистая кухня-столовая, большой холл с камином; на стенах пейзажи Альп и Гамбурга, его маленьких улочек возле озера.
— Хотите виски? — спросил Кемп. — Или будете продолжать вино? Я жахну виски.
— Сколько у вас вина?
— Хватит. Дюжина. Осилите?
— Нет, мочевой пузырь лопнет, некрасиво. А пару бутылок высосу.
— Есть хамон. [18] Настоящий, из Астурии, очень сухой. Любите?
— Обожаю. А сыр есть?
— И сыр есть. Располагайтесь. Включить музыку? Я привез много наших пластинок. «Лили Марлен» поставить?
— Какое у вас воинское звание?
— Капитан. Я кончил службу капитаном. Останься в армии, был бы полковником.
— В каком году кончили служить?
— Давно.
— Просто так и сказали: «больше не хочу служить рейху и фюреру»?
— Нет, — ответил Кемп, расставляя на столе большие тяжелые бокалы, тарелки, на которых были изображены охотничьи сцены, бутылки, блюдо с хамоном и сыром. — Вы же прекрасно знаете, что так я сказать не мог. Меня перевели в министерство почт и телеграфа… Мы занимались атомным проектом. Штурмбанфюрер Риктер возглавлял административную группу, я курировал координационную службу, громадный объем информации, нужно было следить за всем тем, что выходило в печать на английском языке, на французском… Да и потом постоянные драки между теоретиками… Они вроде писателей или актеров… Грызутся день и ночь, толкаются, словно дети, только в отличие от малышей дерутся не кулаками, а остро отточенными шипами. Попробуйте вино. Каково?
Штирлиц сделал глоток:
— Это получше того, чем нас поил дон Фелипе.
— Да? Очень рад. Мне присылают вино из Севильи, там у нас бюро, мы купили хорошие виноградники. Эрл знает толк в коммерции… Еще?
— С удовольствием.
— А я добавлю себе виски… Хорошее виски, крестьянский напиток… Зря отказываетесь.
— Я не откажусь, когда вы устроите меня к себе. Напьюсь до одури. Обещаю.
— До одури — не позволю. На чужбине соплеменники должны оберегать друг друга. Неровен час…
— Когда вы уехали сюда?
— В сорок четвертом… Фюрер закрыл атомный проект как нерентабельный. А потом гестапо арестовало ведущего теоретика Рунге, они выяснили, что у него то ли мать, то ли бабка были еврейками, вы же знаете, не чистых к секретной работе не допускали… Ну, меня и отправили сюда, на Пиренеи…
— Кто? Армия?
Кемп впервые за весь разговор тяжело, без улыбки посмотрел в глаза Штирлица и ответил:
— Да.
— Разведка? Абвер?
— Нет. Вы же прекрасно знаете, что Гиммлер разогнал абвер после покушения на Гитлера, но ведь министерство почт и телеграфа имело свои позиции в армии…
— С какого года вы в ИТТ?
— С сорок пятого.
— Гражданин рейха работает в американской фирме?
— Почему? Это испанская фирма… И потом мне устроили фиктивный брак с испанкой, я получил здешнее гражданство, все легально. Как, кстати, у вас с паспортом?
— У меня хороший паспорт.
— Можно посмотреть?
— А зачем? Я же сказал — вполне хороший паспорт.
— Вы испанский гражданин?