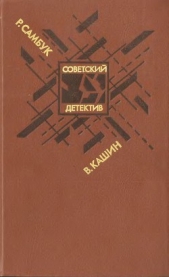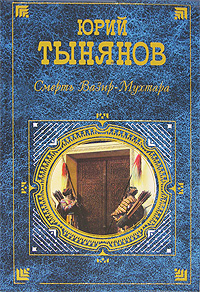Приведен в исполнение... [Повести]
![Приведен в исполнение... [Повести]](/uploads/posts/books/105276/105276.jpg)
Приведен в исполнение... [Повести] читать книгу онлайн
В настоящий сборник детективных повестей Г. Т. Рябова вошли остросюжетные произведения о правоохранительных органах, о чести, о подлости и долге. Герои, с которыми предстоит познакомиться читателю, не просто попадают в экстремальные ситуации, совершая подвиги или предательства, — они всегда и безусловно идут по острию, их жизнь — вечная и неизбывная проблема выбора.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Летчик замотал головой, словно она у него была на шарнире:
— Нет! Я для того и позвал вас, чтобы сказать… Там… Тогда, с воздуха, я не видел, поймите, не видел, это было далеко, это не воспринималось как убийство людей, вы ведь тоже едите мясо и не думаете о бедных коровах…
— А ты не думал о «бедных» людях, понимаю… — насмешливо перебил Фаломеев, — а теперь увидел близко, рядом, и все понял, так, что ли?
— Я не знал, что «Шутс-Штаффель» убивает пленных…
— А то твой отец не убивал в тридцать третьем, — снова перебил Фаломеев, — не крути ты мне пуговку, обер-лейтенант, я не вчера родился, понимаешь?
Немец долго молчал.
— Как хотите… — Отошел и лег на спину, с хрустом вытянув ноги.
— Утром я все же схожу на хутор, — сказал Кузин. — Не может быть, чтобы они на самом деле такие сволочи были… Есть-то нам надо?
Кисляев проснулся от пронзительной трели «милицейского» — как ему показалось — свистка; через сарай, превращенный во временную казарму, торопливо шагали навстречу друг другу вчерашние исполнители фокстрота — роттенфюреры — и свистели, выкрикивая на дурном русском: «Встать, бистро! — Заспавшихся они поднимали пинками. — Это не есть санатория Клара Цеткин, — и смеялись, — ви начинайт новий порядок жизн, вам помогайт великая Германия!»
Пленные одевались, выбегали на импровизированный плац и строились. Кисляев натянул брюки и сапоги, китель, долго возился с ремнем, замок был непривычным.
— Все просто, это вам не комиссарский ремень со звездой, — подошел офицер с тремя серебряными квадратами в черной петлице. — Все продумано, — продемонстрировал, как пользоваться пряжкой, улыбнулся тонкими белыми губами: — Спали хорошо? Не жалеете о принятом решении? — Ответ Кисляева его не интересовал, он даже не сделал попытки выслушать и, пощелкивая стеком, вышел на середину плаца. — Внимание… — Он говорил негромко, даже тихо для такого большого пространства, говорил, не сомневаясь, что его услышат все, в самых дальних углах тоже. — Мы даем вам всем первую и последнюю возможность искупить свою вину…
Какую вину, перед кем виноваты, что он несет, этот немец… Кисляев косил глазом на стоявших сбоку. На всех лицах — небритых, усталых, покрытых нездоровой бледностью, обозначилось недоумение, впрочем, немца это не интересовало: не понимаете — и не надо, главное все равно поймете. На нескольких хуторах жители приютили раненых, теперь эти хутора следовало сжечь, а виновных — подвергнуть экзекуции. Пленные стояли с опущенными головами, никак не реагируя, внезапно один — он стоял в первой шеренге — голубоглазый блондин, тот самый, что накануне вечером, перед отбоем, попросил у немецкого солдата аккордеон и долго играл душещипательные танго, а на бис спел роман Козина «Дружба», отчего несколько человек расплакались и даже конвоиры притихли — теперь этот симпатяга вдруг с чисто русской удалью ударил пилоткой о землю.
— Братцы! — заорал он. — Прав господин немец, — он «отбил» поклон в сторону гауптштурмфюрера, чем вызвал поощрительную усмешку, — прав он, провинились мы, задурили нам глупые головы, политические комиссары и разные партейцы, а вот оне, — он вытянул обе руки в сторону офицера, — дают нам оружие, вы ведь задумайтесь, какое это мужество и доверие к нам, низшей расе, иметь надо, чтобы решиться на такое? Я бы не решился, и вот здесь присутствует майор, гражданин Кисляев Яков Павлович, вчера познакомились, так вот он со мной полностью согласен, так ведь, ваше высокоблагородие? — Он вышел из строя и подошел к Кисляеву, немец с любопытством наблюдал, ожидая, чем это кончится.
Кисляев обмер. Ладно, еще внутри себя самого — до дрожи трудно и страшно, никак невозможно отделаться от мысли, что силенок-то — нет, и потому вляпался в явную дрянь, чего уж там, но чтобы вот так, открыто, с удалью… Он вглядывался в лицо голубоглазого, простое, на самом деле симпатичное лицо исконно русского парня, и обрывалось что-то в душе, и физически было противно, словно перед тяжелой рвотой. Зачем ты, зачем…
А немец ждал, нетерпеливо постукивая стеком по голенищу сапога, остановились спешившие куда-то солдаты, уставились любопытными глазами.
А что, он ведь прав… Кисляев уговаривал себя, вернее, ему хотелось думать, что он себя уговаривает, на самом же деле ответ уже был, только в этом не хотелось признаться — так, сразу, как же признаться без кокетства, без внутренней борьбы, это же не героично, это унылая проза. «Высокоблагородие», — повторил он про себя титул, которым его только что назвали, — а что, может еще и признают немцы его звание, то есть — чин, в командных училищах Красной Армии учеба поставлена как следует… Кисляев подтянулся и, стараясь смотреть в глаза гауптштурмфюреру как можно преданнее, громко произнес:
— Так точно!
Гауптштурмфюрер кивнул, поднял стек:
— Русские солдаты! Сейчас мы отправляемся на место. Чтобы вы не слишком устали — оружие и снаряжение вам выдадут перед началом операции.
— Не доверяют… — сказал кто-то рядом с Кисляевым.
— Правильно делают! — убежденно сказал Кисляев. — Делом заслужить надо.
Красноармеец промолчал, спрятал глаза, но Кисляев успел поймать не то отчуждение, не то самую настоящую ненависть и тут же подумал — нет, показалось.
Раздалась картавая команда — видимо, немцы решили, что русские сразу должны приучаться к настоящему языку; дробно отбивая шаг, колонна двинулась.
С рассветом Кузин отправился на хутор, но чем ближе подходил, тем меньше хотелось просить. Когда поднялся на крыльцо и увидел массивную, явно рассчитанную на то, чтобы задержать чужих, дверь, — ярость вспыхнула с новой силой. Куркули проклятые, думал он, копите от первого вздоха до последнего, жадничаете, зимой снега не выпросишь, и ведь никакого толка не то чтобы всем людям — вам самим никакого толка, жметесь, лишний кусок боитесь съесть, а для чего? Чтобы «оставить» — сыну, дочери, внуку, а те, получив жирный кус, — снова копят и копят, чтобы «оставить», и так до скончания века… А пришла к вам новая жизнь — с ее коллективизмом, чувством локтя, уверенностью в завтрашнем дне — вы ее не заметили или сделали вид, что еще хуже, потому что это уже самая настоящая контра… А теперь у вас надо вымаливать кусок хлеба, чтобы дойти до своих и, вернувшись в армию, бить немцев без пощады, между прочим, за вас же…
Он постучал, требовательно, уверенно, как привык. Открыла женщина, она ни о чем не спросила через дверь, и это удивило Кузина. «Не боитесь? — Он перешагнул порог: — Чего же вчера даже куска хлеба не дали нашему товарищу?» Она покачала головой: «Пан не понимает, придут швабы, поубивают детей, их же пятеро… — Закрыла дверь. — Подождите здесь, спят все… — Вздохнула виновато: — С вашим паном муж говорил, он все объяснил: если бы одному — дали бы, накормили, а воем нельзя, потому что эта против власти…» «А мы вам — не власть? — сжал губы Кузин. — Не рано ли похоронили?» «Подождите…» — повторила она: и ушла. Кузин сел на дубовую скамейку и достал пистолет, решил проверить лишний раз — все ли в порядке с личным оружием. Женщина вернулась, боязливо покосилась, протянула узелок из чистого полотенца: «Здесь хлеб и сало, четыре луковицы». — «Воды нужно!» — попросил он, пряча пистолет. «Сейчас», — она сняла с полки старинную четверть из-под водки и, наклонив ведро, аккуратно начала ее наполнять. Вышел мужик лет пятидесяти, стриженный в скобку, как кержак, укоризненно стал что-то говорить по-польски, потом открыл дверь: «Уходите, я вечером все вашему офицеру объяснил, я не по злу, просто так надо, поймите…» — Он говорил по-русски медленно, но практически без акцента, Кузина это удивило. «Где научились?» — «Что значит „где“? Вы забыли, что Польша частью России была, а мы — помним». — «Значит, понимаете, что советская власть вам свободу дала, государственность свою?» — «Понимаем, что Россия у нас эту государственность отобрала». — «Не можешь простить?» — «Не могу забыть. Кто забывает о плохом, не оценит хорошего. — Он вышел на крыльцо и тут же вернулся. — Ты уже не сможешь уйти. Немцы… — Он перевел взгляд на широкую полку над дверью. — Там хомуты, вожжи, лошадей теперь нет, ваши отобрали, ты залезай, швабы туда не сунутся…» Проклиная ту минуту, когда возникла у него мысль идти на этот хутор, Кузин взобрался на полку. В стене было маленькое окошко, забранное грязным стеклом, сквозь него он увидел, как окружают дом и постройки немецкие солдаты, а во двор заруливает легковой автомобиль. Потом строем вошли красноармейцы, их было около роты, все без оружия.