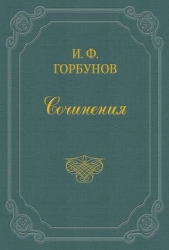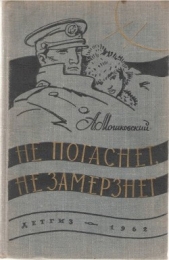Что за горизонтом?

Что за горизонтом? читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
К полудню воздух нагрелся так, что термометр в тени показывал плюс двадцать восемь. Многие пассажиры загорали на палубе. В каюте было душно даже при открытом иллюминаторе. Богородский, обнаженный по пояс, сидел на палубе под навесом и своей соломенной шляпой, как веером, махал на вспотевшие лицо и грудь. Я подошел к нему в тот момент, когда он разговаривал с каким-то мужчиной, низкорослым, коренастым. Изборожденное морщинами его доброе лицо учтиво улыбалось, обнажив белые зубы. Завидя меня, Богородский призывно помахал мне рукой и лениво проговорил:
— Проходи, садись. Тут хоть слегка продувает, — И, обращаясь к своему собеседнику, представил, назвав мое имя. — А это профессор из Твери. Мой старый поклонник. А я даже не знал. Вот оказывается…
— Павел Федорович Малинин, — учтиво наклонил голову профессор и протянул мне руку. На вид ему было за шестьдесят, седые, довольно поредевшие волосы, серые, тихие глаза.
— Профессор каких наук? — полюбопытствовал я.
— Историк, — кратко ответил профессор и продолжал: — Мы с дочерью сели в Твери, плывем до Нижнего. Недавно по телевидению крутили старые советских времен фильмы, и там вот в главной роли Егор Лукич. Было очень приятно. Вся наша семья горячие поклонники таланта Егора Лукича. Я помню вас по МХАТу, Егор Булычев, какой образ! С кем сравнить? Вы, наверное, последний из могикан. — голос у него глубокий и приятный, полный благородства и учтивости.
— Вот видишь, Лукич, тебя помнят, знают, а ты собираешься покинуть театр. Неразумно, — сказал я.
— Что вы, разве можно? — воскликнул Малинки, глядя на Богородского долгим взором восхищения. — К сожалению, в последний раз в театре я был в советское время, где-то незадолго до горбачевской перестройки. А сейчас, откровенно говоря, не до зрелищ.
— Да и смотреть нечего, — сказал Богородский и прикрыл шляпой свою тяжелую круглую голову и уперся в колени крупными, мягкими ладонями. — Нет театра, тем паче — кино. Все искусство угробили, похоронили израильские пришельцы, разные марки захаровы, любимовы и всякая бездарная шантрапа. — Круглое лицо Богородского скорчило презрительную гримасу, а раскатистый голос его и слова высек в глазах профессора немое удивление. Он растерянно, с оттенком смущения посмотрел на Богородского, потом перевел взгляд на меня и тихо спросил:
— А он, что? Юрий Любимов — тоже?
— Тоже, тоже, — подтвердил Богородский, — что и Марк Захаров, из одной стаи разрушителей прекрасного, достойные наследники и продолжатели гнусного маразматика Мейерхольда.
Профессор робко подернул плечами, морщинистое смуглое лицо его выражало недоумение и озабоченность.
— Вы не согласны с Егором Лукичом? — спросил я.
— Не то что не согласен, — растерянно проговорил профессор, и странная улыбка сверкнула на его тонких, сухих губах. — Я просто не знал. Что касается Мейерхольда, то вы совершенно правы: это такой же разрушитель-реформатор, как нынешние Чубайс и Немцов.
— Отлично сказано, Павел Федорович, — пробасил Богородский. — Дайте вашу руку. Удачное сравнение. С той только разницей, что Мейерхольд разрушал театр, а эти недоноски разрушают великую державу. А им усердно помогают шабес-гои типа Михаила Ульянова, Ефремова, братьев Михалковых, этих яблок-гимнюков, да еще бериевско-шеворнадьевского земляка Басилашвили.
Я говорю о лакеях, русских по крови, но служащих оккупантам, то есть о предателях. Я вам так скажу, уважаемый профессор: чем глубже думаю над жизнью, наблюдаю за людьми, за их поведением, тем больше убеждаюсь, что из всех тварей рода человеческого, самая мерзкая и самая подлая — лакей. Никакая ядовитая змея, или чумная крыса не может сравниться по зловредности, гадости с лакеем. Это существо вне нации и расы, оно лишено чувства родины, идеала, красоты, порядочности, достоинства и чести, долга, совести, всего того, чем человек отличается от гниды. Лакей труслив, жесток, коварен, льстив, мелочен, жаден. Предел его желаний — собственное брюхо. Ради этого он зарежет свою мать, растлит дочь, будет служить кому угодно, хоть дьяволу. Сегодня оккупанты России готовят таких выродков из наших мальчишек.
Богородский разволновался, на потном лице его выступили розовые пятна. Он достал платок и вытер лицо. Профессор Малинин осторожно спросил:
— У вас дети есть, Егор Лукич?
— Сын, подполковник-пограничник. На Дальнем Востоке служит, — тяжело дыша, ответил Лукич. — Внук — Артем. Здесь, под Москвой в Лосиноостровске, заканчивает Высшее военное училище погранвойск. Хороший парень, рассудительный, но многое не понимает в нашей подлой жизни. Верит ящику, лживой, оккупационной прессе. Как и миллионы других.
— Я согласен с вами, уважаемый Егор Лукич, лакеи — это великое зло. Они переполнены ненавистью к своей стране. Чубайса, Немцова я еще могу понять, для них Россия — территория. Ну а Михаил Ульянов, Ефремов? Или тот же Солженицын. Он же сказал: «Нет на свете нации более презренной, более покинутой, более чужой и ненужной, чем русская». Что же получается? Он не принадлежит к этой нации? Так выходит.
— Выходит так: Солженицын, Солженицер, — согласился Богородский и прибавил: — Да его б за такие слова снова выдворить за океан.
— Там он уже не нужен. Там он свои тридцать серебряников получил, — заметил я.
— А теперь за такие слова и здесь получил серебряники от режима, — сказал Малинин. — Чин академика.
— Да, удивительно, — сказал я. — Каким местом думали академики, голосуя за него? И не нашелся среди них хотя бы один честный, порядочный ученый патриот, который бы перед голосованием встал и огласил слова кандидата в академики о русском народе. Не нашлось.
— Такие уж там академики, вроде Лихачева, — язвительно заметал Малинин. — Этот липовый патриот и профессиональный русофоб даже пытался оспорить, что река, по которой мы плывем, вот эта самая Волга-матушка и вовсе не русская река, потому как протекает она по землям, где живут не только русские.
Профессор во мне вызвал симпатию своей провинциальной непосредственностью и неподдельной прямотой. Думаю, что такого же мнения был и Лукич.
— Вот даже как?! — Богородский расправил широкие плечи и задвигался всем своим могучим корпусом. — А ведь из него телевидение делает икону. Па-три-от… Хотя, чему удивляться. Я так скажу: кого телевизор хвалит и постоянно рекламирует, считай, что это явный подлец. На экране господствуют лица еврейской национальности. Не просто евреи, а лица, то есть особые, сионизированные, имеющие какие-то заслуги перед их главным штабом. Скажем, заслуги в деле свержения советской власти. Вы обратили внимание, какие царственные похороны были устроены заурядным актерам Гердту и Никулину? Сверх царственные. Не то, что какому-то там маршалу Жукову или Рокоссовскому. Значит, одни служили России, другие Сиону.
Голос Богородского приглушенно дрогнул и замолчал. Малинин горестно вздохнул и, выдержав паузу, заговорил, желая увести беседу в сторону от злободневной политики.
— А скажите, Егор Лукич, все-таки есть еще, сохранились русские театры? Тот же ваш или Малый. — Как вы относитесь к Юрию Соломину?
— Нормально. На нем и держится театр.
— А что из себя представляет Валерий Золотухин?
— Обыкновенный космополит в маске патриота, шабес-патриот, — небрежно бросил Богородский. — Теперь их много развесь таких патриотов, всеядных скотов, хоть в искусстве, хоть в политике. Целые лебяжьи стаи, во главе с рычащим генералом. Скажите, какой нормальный русский режиссер позволил бы себе ставить в театре обезьяний бред графомана Иосифа Бродского, который, между прочим, и сам не считает себя русским поэтом?
— Очевидно, прельстила Нобелевская премия, — предположил Малинин. — Поддался коньюктуре.
— Просто слакейничил, — поморщился Богородский, замотав тяжелой головой. — Что такое Нобелевская премия? Еврейская мастерская, где политические шулера играют в бесчестные игры, на потребу дня лепят пластилиновые фигуры гениев. Так были слеплены и Пастернак и Солженицын и десятки подобных Бродскому шарлатанов.