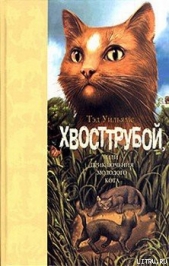Сошел с ума

Сошел с ума читать книгу онлайн
В романе «Сошел с ума» сюжет уводит читателя в мир жестокого насилия и преступных разборок, в мир, где только любовь помогает человеку остаться человеком.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С Гришей мы были знакомы давно, еще с той прекрасной поры, когда он работал редактором в крупнейшем государственном издательстве, пописывал критические статейки и мечтал открыть собственный журнал, который поставит его имя в один ряд с именами Некрасова, Бориса Полевого. С журналом у него ничего не вышло, как обыкновенно не сбываются юные грезы, но к новым временам Гриша приспособился довольно безболезненно, причем не скурвившись окончательно. На пару с каким-то хватким шаромыжником организовал коммерческое издательство, которое вот уже пятый год процветало, хотя и оказывалось перманентно на грани банкротства. Из тридцатилетнего похожего на монаха молодого человека с романтически вздыбленными волосами и пронзительным взглядом Гриша Колонтай превратился в самоуверенного полноватого мужчину с аккуратной прической и в добротном костюме, постоянно с сомнамбулическим видом пересчитывающего нал и безнал, мифические тиражи и отпускные цены, поминающего к месту и не к месту каких-то таинственных дилеров, брокеров и киллеров; но даже в этом заторможенном, зомбированном состоянии он сохранил в недрах души былую мечту — поразить мир гениальной книгой, очистительной и хрупкой, как хрустальная весенняя гроза. Естественно, этой заповедной и немного смешной надеждой Гриша Колонтай делился теперь не со всеми, а только с избранными, и я входил в их число. Я ценил его дружбу, потому что он принадлежал к тем немногочисленным людям (в нашем цеху их вообще единицы), которых можно ломать до бесконечности, травить собаками, обрезать им сухожилия, но у них, втоптанных в дерьмо по шляпку, все равно будет сиять в очах наивный зеленый огонек простодушного удивления перед жизнью.
— Прежде чем ругаться, — сказал я, — объясни, чего тебе надо?
Гриша ответил, что ему лично от меня ничего уже не надо, а вот я, скорее всего, заинтересован в том, чтобы книжка под замечательным названием «Сто способов прожить сто лет» вышла в этом квартале, иначе придется возвращать аванс и вдобавок платить неустойку, о размере которой он пока якобы из деликатности умолчит. Честно говоря, Гриша меня огорошил. Я начисто забыл об этой договорной бредятине и о том, в каком она состоянии. Гриша вежливо напомнил, что в рукописи не хватает двух последних частей (примерно одного печатного листа).
— Где эти страницы?
— Как где? В машинке, — соврал я.
— И когда я смогу их получить?
— Через месячишко, — брякнул я наобум. Гриша так разъярился, что некоторое время молчал, а потом понес околесицу о чувстве ответственности, которое каждый порядочный человек испытывает по отношению к другому человеку, с которым связан обязательствами. Все эти слова, почерпнутые из романтического прошлого, сегодня звучали как лепет наивной девицы, пытающейся растолковать насильнику, что его поведение безнравственно. Но я с любопытством выслушал Гришу до конца. Особенно впечатляюще прозвучала мысль о том, что человек, нарушающий моральные правила, совершает преступление в первую очередь по отношению к самому себе и к своим детям.
— Дело в конце концов не в авансе, — закончил Гриша, — все-таки мы с тобой друзья, и ты пользуешься этим. Разве не обидно?
— Обидно, — согласился я. — Но если я скажу, что провалялся в психушке, тебе будет легче?
— Будет. А это правда?
— Ты сомневаешься?
— Пожалуй, нет. К этому давно шло. И что нам теперь делать?
— Через месяц, — сказал я.
— Постарайся через недельку. Напрягись, Миша. Ситуация на рынке очень благоприятная. Молнией выкинем стотысячный тираж. Твоих девять процентов, прикинь сам.
— Давай созвонимся послезавтра.
Уже другим, нормальным голосом Гриша спросил:
— У тебя неприятности?
— Были. Теперь все позади.
…Второй звонок прозвучал гласом судьбы, хотя ничего в нем не было угрожающего. Звонивший назвался Иваном Викторовичем Федоренко, сотрудником какой-то фирмы (названия я не уловил, что-то похожее на лес-пром-газ-снаб), и предложил подъехать к четырем дня по такому-то адресу. Я спросил: зачем? Неизвестный Федоренко из неизвестной фирмы вкрадчиво сообщил, что у него есть выгодное предложение. Я спросил: какое?
Он ответил, что не совсем удобно обсуждать детали по телефону. Я попросил уточнить хотя бы, какого рода это выгодное предложение. Федоренко со странным смешком ответил, что какого бы рода оно не было, оно обязательно меня заинтересует и в накладе я не останусь. Я записал адрес и обещал подъехать. Собеседник сказал: ждем! Вот и весь разговор. Или лучше сказать: вот и вся передышка. Можно было, конечно, допустить, что звонили из какого-нибудь коммерческого издательства, которых теперь развелось как поганых грибов, они есть при каждом крупном синдикате — их создают и для отмывки «левых» денег, и для многого другого, — но думать так можно было разве что для самоутешения. Издательства вступают в контакт с авторами без всякой хитрости, секреты начинаются позже, когда заходит речь об оплате. Позвонили плохие люди, но прятаться от них было бессмысленно. Все равно что прятаться от землетрясения под кроватью.
Погруженный в скверные раздумья, я обмер от страха, когда услышал, как в прихожей скрипнул замок и щелкнула отпираемая дверь. Но это были не убийцы, это была всего лишь родная дочь Катенька.
Считается, для родителей дети не меняются, то есть, навсегда остаются детьми, но ко мне это не относится. За свои двадцать четыре года Катенька прошла множество превращений, и к каждому я заново и с трудом приспосабливался. Легче всего получилось с ее нынешним возрастом. Передо мной стояла вполне созревшая молодая женщина, высокая, пухленькая, стройная, с милым лицом и завороженным, точно как у матери, выражением чуть раскосых, с зеленой искрой глаз.
— Ну вот, папочка, наконец-то тебя поймала, — прощебетала Катенька. Я растопырил руки и мы важно, с чувством, по давно заведенному ритуалу обнялись и поцеловались. От нее пахло незнакомыми резковатыми духами и нежным детским потом.
— Рад тебя видеть, котенок.
— Может быть, поверю, если расскажешь, что с тобой происходит.
Прошли на кухню, и я заварил кофе. В шкафу отыскалась початая пачка замечательного польского печенья. По многолетней устоявшейся привычке Катенька повела разговор в таком тоне, в каком директор школы требует объяснений у мелкого классного пакостника, подозреваемого в том, что именно он навтыкал гвоздей в стул учителя. Мне это нравилось. Ее добродушное ворчание напоминало о лучших временах, когда обо мне заботились не только для того, чтобы выманить лишнюю сторублевку. Наступил и мой черед кое о чем у нее спросить.
— Значит, все-таки сделала?
Покраснела, опустила глаза.
— Хорошо, — благодушно заметил я. — Пусть я такой-сякой, пусть плохой отец, никудышный человек, бабник и пьяница, но греха убийства на мне пока нет.
— Папа!
— А что «папа»? Вы со своим дебилом просто так, от скуки затеяли новую жизнь, а потом так же походя, с равнодушием скотов раздавили невинную душу, как червяка, не дав ей даже полюбоваться на белый свет. Наверное, еще и хихикали при этом. Подумаешь, какой пустяк!
— Да, ты умеешь быть красноречивым, когда хочешь причинить боль.
В зеленоватых родных глазах заблестели слезы, но сейчас мне не было ее жалко.
— Мой отцовский долг сказать тебе правду, доченька. От своего челнока ты ее не услышишь.
Тут она, конечно, оживилась.
— Про отцовский долг, папочка, тебе лучше бы не вспоминать. С этим, кажется, ты немного опоздал.
— Почему же? Я же не утверждаю, что я святой. Просто напоминаю: детоубийство — тягчайший из грехов. Хотя чувствую, у тебя другое мнение. Похоже, для тебя аборт такая операция, как вроде сковырнуть чирей?
— Папа, я приехала не для того, чтобы поссориться!
К этой минуте мой обличительный запал уже угас. Что толку втолковывать запоздалые истины, которые она и без меня знает. Тем более, по родовому свойству всех морализаторов, я кривил душой. Не о ребенке неродившемся пекся, а об ней, родной кровиночке, выпестованной с горшка и до первого причастия, которая с готовностью овцы ложилась под нож, стоило ее забубённому пастуху укоризненно мигнуть оком.