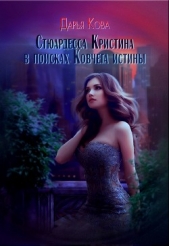Глубокие мотивы: повести

Глубокие мотивы: повести читать книгу онлайн
Остросюжетные психологические повести посвящены любви, любви сложной и неожиданной, ставящей перед героями неординарные нравственные проблемы. Все повести объединены одним героем — следователем прокуратуры Рябининым.
В книгу вошли повести «Шестая женщина», «Аффект», «Не от мира сего», «Быть может…», «Криминальный талант», «Неудавшийся эксперимент».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ему показалось, что белые лепестки зябко дрожат. Он присмотрелся, щуря глаза: они ритмично вздрагивали, будто в стакане работал крохотный двигатель. Возможно, дрожит его рука. Нет, рука плотно замерла на стекле. Да рука бы дрожала расхлябанно, неритмично. Всё-таки он убрал её, прижался грудью к краю стола и пристально глядел на ромашки. Они вздрагивали: тихо, почти незаметно, но вздрагивали, словно их каждую секунду кто-то толкал; словно на дне стакана билось невидимое сердце…
Сердце. А ведь их толкало его сердце. Рябинин удивлённо посмотрел на свою грудь… Неужели сердце? Небольшой комок, который вечно гнал кровь по его организму; который мог болеть, страдать и сжиматься от чужой боли и ещё невесть отчего, оказывается, мог толкать стол, потом стакан, а потом ромашки, которые отзываются на эти толчки тихим вздрагиванием.
Могучее человеческое сердце. Ведь оно есть у каждого, и значит, сердце каждого способно не только гнать собственную кровь, но и помочь тем же ромашкам, помочь тем же людям… Помочь своим осторожным стуком любому человеку, ждущему этой помощи. Врачи говорят, что физические нагрузки сердцу полезны. А нравственные? Инфаркты не от душевных ли недогрузок?
Петельников его так и застал — лежащим грудью на бумагах перед стаканом с ромашками. Рябинин поднял голову, удивлённо разглядывая небывалую одежду инспектора.
— Тебе на улице пятачки не подавали? — улыбнулся Рябинин.
— Я не брал, — буркнул Петельников, устало бросаясь на стул.
Сквозь его усталость проступало то взвинченное состояние, которое остаётся в человеке после долгого нервного напряжения и затухает не скоро, иногда под утро. Но взвинченность инспектора была особой, радостной. Рябинин слышал, что с ним пришёл ещё кто-то, да не один человек, может быть, и не два; стоят они в коридоре и ждут команды инспектора.
Петельников достал из кармана пиджака аккуратную трубочку документов и принялся считать доказательства, начав с известных, с показаний белобородого старика, и победно переходя к новым, уже добытым им. Он перечислял эти доказательства одно за другим, как уже делал мысленно в деревне Устье, — раз, два, три… — словно выступал в суде.
— С лодкой ясно, — согласился Рябинин, разглядывая телевизионный переключатель и паспорт на часы. — А что дал обыск в доме?
— Плашкин не дурак, краденое хранить в избе не станет. Но вот этого достаточно. Нашли в огуречном парнике.
Инспектор положил на протокол осмотра серую пластмассовую коробочку. Внутри она была выстлана красным бархатом, а на крышке темнел рисунок полуразрушенного сооружения с надписью «Агуди VII век».
— Из-под часов «Наири», — объяснил Петельников.
— В парнике, говоришь?
— Да, в огороде.
— А что это за грязь? — спросил Рябинин, разглядывая чуть заметное серое пятнышко на ярком бархате.
— В коробку попал камешек.
— Ага, попал, — вроде бы обрадовался Рябинин.
— Теперь доказательств хватит, — поддержал эту радость инспектор.
— Теперь их навалом.
— Плашкин здесь.
— Я уж чувствую… Признался?
— Ну, этот быстро не признается. Он Леденцова так звезданул, что переднего зуба как не бывало.
— Оказал сопротивление? — удивился Рябинин.
— Леденцов сам виноват. Мандат не предъявил, одет чёрт те как, из избы не уходит…
Леденцов и Николай Фомич ввели задержанного и удалились в коридор — ждать санкции прокурора на его арест.
Посреди кабинета стоял невысокий крепкий парень в светлом клетчатом костюме и белой рубашке без галстука. Лица Рябинину было не рассмотреть — всё-таки день уже кончился.
— Садитесь, — предложил он.
Задержанный сел, попав в оконный свет летнего вечера.
Русые волосы, не до плеч, но уже длинные, по городской моде. Большие, слегка выпяченные губы. Широкий нос с крупными ноздрями, которым он сейчас напряжённо дышал. Поблёскивающие скулы: от загородного ли солнца, от оконных ли зайчиков противоположного дома.
— Плашкин Михаил Семёнович? — спросил Рябинин.
— Плашкин, Плашкин, — взорвался парень. — Тридцать лет, как Плашкин. Ну и что, если Плашкин? Где обворуют, так меня сразу за шкирку? Вроде дежурного фраера. Всегда под рукой. Да как освободился, я и в милицию не попадал!
— Ой ли! — подал голос Петельников от сейфа, где он сидел тихо, как в филармонии.
Плашкин резко обернулся:
— Раз хотели запихнуть в вытрезвитель… А дежурный меня не принял, как самостоятельно ходячего. И баста.
— Гражданин Плашкин, сейчас мы во всём разберёмся, — сказал Рябинин тем особым голосом, в котором было чуть сочувствия, чуть понимания и немного строгости: такими голосами разговаривают старые врачи, больше надеясь на слово, чем на лекарство.
Задержанный повернулся к следователю и выжидательно напрягся.
— В универмаге вы работали?
— Когда это было-то… Пять лет назад.
— Директора, Германа Степановича, знаете?
— Видел. Я имел дело с женщиной.
— С какой женщиной?
— Да такая… Похожа на лягушку в платье. Всё кулдыкала. Мы её так и звали — Кулдыкалка.
Верно, Кулдыкалка. А ещё вернее — Надежда Олеандровна.
— После освобождения были в универмаге?
— Был, вот этот костюмчик приобрёл.
Ему мешали руки, поэтому он с готовностью потянул пиджак за борта, как бы показывая костюм.
— Часто дома не ночуете?
— Почему это часто?…
— Какого числа последний раз не ночевали?
— Я не бухгалтер, цифры не помню.
— Гражданин Плашкин, вы встали в такую позу…
— Я сейчас в неё сяду, — зло перебил задержанный.
— …что вам самому в ней неудобно, — терпеливо докончил Рябинин.
— Неудобно сидеть у знакомой в холодильнике, когда муж вернулся.
— А ещё знаете?
— Неудобно сидеть на полу, свесив ноги.
— Неудобно сидеть в трубе, когда топится печка, — раздалось от сейфа.
— Гражданин Плашкин, — сказал Рябинин опять тем, докторским, тоном. — А ведь человек со спокойной совестью хамить бы не стал. Ему в этом нет необходимости. Так почему ж вы так волнуетесь?
— Про дурь всякую спрашиваете, вот почему!
— Хорошо, — улыбнулся Рябинин, — ответьте сначала на дурь, а потом я спрошу про умное.
— Где да когда… В конце месяца двадцать девятого или тридцатого. Рыбачил всю ночь, костёр на Рогу палил.
— Кто это может подтвердить?
— Да никто.
Руки, его руки бились внизу, как рыба в сетке. Видимо, ему хотелось их выплеснуть на стол, и тогда бы зашелестели вспугнутые бумаги и вздрогнули бы эти худосочные ромашки.
— Откуда в вашей лодке телевизионный переключатель?
— Пацаны ныряют, рыбаки удят… мало ли откудова. Я на той неделе в лодке пустую бутылку из-под пятнадцатирублевого коньяка нашёл.
— Хорошо. А это там откуда? — Рябинин положил перед ним обрывок паспорта, придерживая клочок рукой.
Плашкин скользнул по бумажному лоскуту равнодушным взглядом, зло уставился на следователя и спросил так, словно хотел голосом всё здесь сокрушить:
— А если в моей лодке покойника найдёте? Так чего ж: я притрупил?
— Хорошо, — покладисто согласился Рябинин, — лодка стоит под открытым небом… А вот эту коробочку нашли в вашем огороде, в огурцах.
Плашкин хотел её схватить, но следователь отвёл свою руку: был у него случай, когда обвиняемый проглотил расписку. Коробочку, правда, не проглотишь, но сломать можно.
— И что в ней было?
— А вы не знаете? Золотые часы.
— Так мне шьют эти тикалки?
— Нет, не одни тикалки, гражданин Плашкин. Мы подозреваем, что вы обокрали универмаг.
Руки всё-таки взметнулись к плечам. Взлетел и сам Плашкин, стукнувшись коленями о стол: ухнула фанерная тумба, покатилось что-то в правом ящике, и закачались городские ромашки.
— Лучше сесть, — внятно сказал Петельников и тихо шевельнулся.
Задержанный сел. Его скулы уже не блестели, лишившись отражённого солнца далёких окон. Волосы растрепались, хотя он их ни разу не коснулся. Вдруг пропала выпяченность губ: Рябинин всматривался — уж не кусает ли. И потухла злость в глазах; она была, когда его подозревали в краже одних часиков, и пропала, когда заподозрили в крупной краже из универмага. Рябинин знал, почему: это злость сменилась отчаянием.