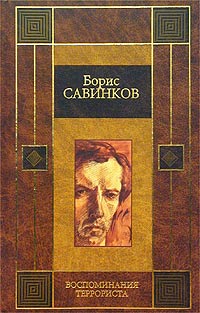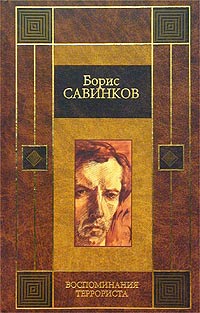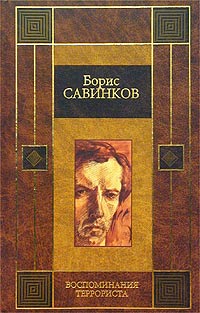Горение. Книга 2
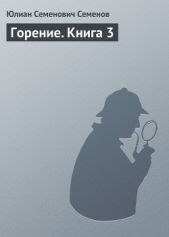
Горение. Книга 2 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Конечно, заказывайте, – ответил Глазов, не поднимая затяжелевших век – менялась погода, небо заволокло тучами, низкими, изнутри черными, затылок потому ломило нестерпимо, отдавало в глаза.
– Здесь жизнь значительно дешевле, – продолжал Есин, – хлеб примерно на два цента…
– За фунт?
– Ну что вы! За десять фунтов…
– Вы и такие мелочи высчитываете?
– Такая мелочь даст экономию бюджета семьи из пяти человек за год в двенадцать долларов шесть центов, а это деньги, Эндрю.
И Глазов вдруг понял Есина – раньше-то ошибался, себя переоценивал.
– Слушайте, Майкл, – сказал Глазов, – сто долларов у них – деньги?
– Там и цент – деньги, Эндрю, – сухо ответил Есин, – а в чем дело? Есть предложение?
– Я хочу попробовать одну посредническую операцию.
– Каков объем сделки?
– Сто долларов.
– Это не сделка.
– Тогда отменяется, – вздохнул Глазов.
– Но тем не менее сто долларов – это деньги, – сразу же отработал Есин. – Они могут стать основой для посреднической операции…
– Мне предлагают сто долларов за пять страниц.
– Воровать эти страницы не надо? – деловито осведомился Есин.
– Нет. Тот человек, посредником которого я думаю стать, выплатит сто долларов за фамилии, клички, имена, места рождения, краткую характеристику делегатов съезда.
– Сколько вы дадите мне, если я приготовлю эти пять страниц?
Глазов удивился:
– То есть? Я же сказал – сто долларов.
– Если вы так думаете посредничать, Эндрю, тогда Россия погибнет. Вы должны просить у посредника триста, мне из этой суммы уплатить сто пятьдесят, сто двадцать пять положить в банк, а на остальные устроить парти, где соберутся нужные для дела люди, причем вы вправе попросить и у меня восемь долларов, потому что я, возможно, заимею хорошие знакомства. Возможно, и нет, но надо уметь рисковать! Плачу восемь долларов. Хотите наличными или выписать чек? «Его Превосходительству Э. И. Вуичу, директору Департамента полиции. Милостивый государь Эммануил Иванович! Работа, проводимая мною в Стокгольме, дает свои благие плоды. Путем довольно сложной и весьма дорогостоящей комбинации мне удалось получить чрезвычайно важный для всей нашей дальнейшей деятельности список ведущих делегатов четвертого съезда РСДРП. Это, несомненно, позволит нам усилить столь необходимую для борьбы с революцией активность. Привожу список делегатов на благоусмотрение Вашего Превосходительства и смею полагать, что Вы не преминете дать указание VII делопроизводству озадачить все охранные отделения Империи установлением подлинных имен и фамилий государственных преступников, собравшихся ныне в Стокгольме: Писатель Григорий Адамович, родился 10 октября 1879 года в деревне Рацивуга, Варшавской губернии, сын аптекаря Александра Адамовича. Роста ниже среднего, волосы черные, довольно длинные, борода неширокая, рыжая, глаза голубые, носит пенсне. Адвокат Семен Алексеевич Сабуров. Инженер Винтер Леонид Борисович, рожден в Баку, роста среднего, владеет немецким и французским языками. (Предположительно под этой фамилией выступает здесь государственный преступник Красин.) Сотрудник журнала „Колокол“ Антон Виницкий, 18 апреля 1880 года рождения. Сын умершего бухгалтера из Любляна Казимежа Виницкого и жены его Матильды. Роста выше среднего, шея длинная, с выдающимся адамовым яблоком. Климент Ефремович Беков, рабочий из Луганска, роста ниже среднего, носит небольшие усы, глаза серые, смешливые, нос курносый, волосы вьющиеся, русые. Журналист Владимир Петрович Махновец, рожден 8 сентября 1872 года в Воронеже, в семье доктора медицины Петра Махновца и жены его Серафимы. Холост. Носит пенсне. Литератор Мартин Мандельштам, 1872 года рождения. Сын купца Льва Мандельштама и его жены Шарлотты. Холост. Роста выше среднего. (Есть предположение, что на съезде выступает под фамилией „Лядов“.) Агроном Петр Павлович Маслов, рожден 18 июня 1867 года. Сын помещика, женат, семья проживает в С.
–Петербурге. Носит очки в золотой оправе, волосы черные. Студент Варшавского университета Иосиф Миллер, рожден 30 июня 1876 года в Вилейке, Виленской губернии. Сын учителя гимназии Эдмонда, холост, борода-эспаньолка русого цвета, нос несколько выгнутый, породистый. (Есть непроверенное предположение, что под этим именем скрывается государственный преступник Дзержинский-Доманский, он же Кжечковский.) Слесарь Федор Яковлев, двадцати девяти лет, рожден в деревне Борки, Новгородской губернии, сын крестьянина Якова и жены его Евдокии. Холост. В последнее время работал на заводе в С. -Петербурге. Журналист Иван Виссарионович Иванович, рожден в декабре 1879 года, сын сапожника из Тифлиса Виссарионова и его жены Екатерины. Служит при тифлисской газете «Демократическая конституция». Роста ниже среднего, волосы и борода черные, полный, глаза карие, нос большой, лицо корявое. (Предположительно под этой фамилией скрывается государственный преступник Джугашвили.) Анатолий Васильевич Воинов, он же Луначарский, журналист, до недавнего времени проживал во Флоренции, роста среднего, носит пенсне, борода и усы русые. Сведения о других делегатах будут мною переданы в департамент по мере работы нашей агентуры. Здесь, в Стокгольме, до меня дошла весть о трагической гибели моего несравненного друга полковника Игоря Васильевича Попова. Я пытался предупредить департамент о готовящемся в Варшаве злодеянии, отправил шифрограмму. Неужели мое сообщение запоздало?! Совесть моя перед светлой памятью покойного чиста, я сделал все, что мог, дабы предотвратить его безвременную гибель. Не зная до конца все перипетии дела, могу, однако, высказать предположение, что сейчас настала пора ударить польскую социал-демократию, ударить сокрушающе, обвинив партию в преступлении закона и норм военного положения. Сие означает виселицу для преступников, виселицу, и только. Сегодня я отправляю на собеседование с Дзержинским агента Л. Ероховского, которого связывала трогательная дружба с покойным Поповым И. В. Смею полагать, что будущие показания Л. Ероховского позволят тем газетам, которые связаны с нами, открыть массированную кампанию против СДКПиЛ, авторитет коей в Привислинском крае растет угрожающе. Пока еще рано давать анализ тем материалам, которые мне удалось получить о работе съезда РСДРП, однако предварительное мнение складывается таким образом, что победит умеренная часть партии и, таким образом, план, начатый по Вашему указанию рще зимою, принесет свои благие результаты. Ленин, вероятно, будет вынужден замолчать; таким образом, наиболее опасный социал-демократический пропагандист будет изолирован надежно. С надеждой на скорую встречу, Вашего Превосходительства покорнейший слуга Г. Глазов» «Господин Кжечковский! Я обязан написать Вам это письмо. Я понял это после того, как мы с Вами расстались сегодня вечером. Я легко схожусь с людьми, ибо не люблю их, Ян Эдмундович. Странно, я ехал сюда с острым чувством ненависти к Вам и Вашим товарищам, которых винил в смерти единственного светлого человека, промелькнувшего кометою-мечтою, а после нашего разговора понял, что виноваты в ее гибели не Вы, ни даже ее прямой истязатель Попов, а я, Леопольд Ероховский, он же Элькин, он же Коромыслов, сын дворянина, внук ксендза, мразь и червь. Я не очень-то могу понять сейчас – в голове не мысли, а примороженные капустные листья, – когда началось мое падение. Детство я прожил в доме деда: помню лишь бритую шею и холодные длинные руки, лежащие на черном дубовом столе, и никогда – на моей голове, на плечах, на колене. Помню первые уроки деда: „Человек призван на землю, чтобы царствовать. Прародители свершили страшный грех, и человек лишился своего царственного сана, попал в подчинение к природе, не смог остаться Высоким, сделался тварью. Его первый грех осквернил землю, за него проклята она была. И это-то проклятие стало проявляться в войнах, в смерти, в обреченности дней, в голоде и жажде“. Когда я переехал в город, в дом отца, разорившего семью карточною игрою, единственным моим занятием сделалось чтение книг – у отца осталась громадная библиотека деда – по дворянской, а не ксендзовой линии. Я сидел в душной комнате, и перед моим взором вставала история. И эта история входила в противоречие со словами деда, сурового, но справедливого ксендза, отца рано умершей матери, и это противоречие терзало мое сердце. Раз человек прошел эволюцию от страшных дней царствования готтентотов: „Что принадлежит мне, то есть мое, а что мне не принадлежит, то обязано стать моим“ – до искупления Христа, а после этого очищения настала инквизиция, которая запятнала Христову веру кровью невинных, то, значит, все дозволено в мире, все угодно, существует лишь два отправных момента, необходимых истории, – грех и искупление. Но это же хлеб и зрелища? Блуд и исповедь? Это же всепозволенность! И я пошел к отцу за советом – к кому идти, как не к отцу? Я не стану описывать, что было во время этого страшного разговора, не надо этого. Но я с тех пор верю, что человек становится рабом, злым, маленьким рабом, отнюдь не только после жестокого избиения или унизительного голода. Нет, воспитание, первые детские годы, дом определяют личность человека, закладывают основополагающий фундамент. Человека можно сделать трусливым рабом, лишив его права бесстрашно высказывать свою мысль. Любил ли меня отец? Да. Но его любовь была рождена страхом за меня, вы помните события семидесятых годов, когда за каждое вольное слово отправляли в Сибирь? Да, отец любил меня, боялся за будущее, и его любовь меня закабалила, лишила „я“, подчинила его эгоистическому страху. Порабощение – даже любовью – есть убийство. Отец меня убил. Я перестал быть мыслящим существом, я бежал мыслей, я боялся огорчить отца вопросом, я боялся его гнева, поскольку мне казалось, что во гневе он умрет и я останусь один в этом мире жестокости и порабощения. Когда отец умер, я постепенно начал ощущать себя, но это ощущение было странным: это была тоска плоти. И тогда произошла вторая трагедия, книжник восхотел ласку, книжник придумал себе идеал, но ведь любовь – это всегда противоборение тяги к данной женщине, и осознание божественного идеала, что стоит и за объектом твоей страсти. Вы простите мой стиль, я пишу в последний раз, поэтому красуюсь, и ничего не могу с собою поделать, но, я верю. Вы относитесь к числу людей, обладающих редким даром понимать. Я ухожу спокойно и осознанно, ибо хоть один человек поймет меня, а всякое понимание – путь к прощению. Нет, я не заслуживаю прощения. Я не прошу его. Я хочу только, чтобы вы поняли меня – может быть, мой урок пригодится другим, кто знает? Ваша убежденность сродни христианской, значит, вы обречены на то, чтобы проповедовать. Я знаю теперь Ваше отношение к Богу, но и Вы знаете мое к Нему отношение – спор бесполезен. Вы вправе не соглашаться, но переубедить меня нельзя. После разочарования в любви, которая вблизи совсем иная, чем в представлении, настала пора краха последнего, определившего мою дружбу с Поповым. Я решил, что в мире жестоких людей, алчных в любви, жестоких дома, несчастных в работе, мыслящему человеку остается один лишь путь – горького и отстраненного индивидуализма. Я придумал себе – после Ницше, конечно, – схему бытия. Я полагал, что спасение – в бегстве от грязи мира в лирику самого себя, ведь никто так себя не любит, кроме как „я“, правда ведь? Я, впрочем, не отношу это к людям Вашей идеи. Вы апостолы веры, вы несете Крест. Я же говорю о множестве. Индивидуализм – это бунт бессильных. Я понял это, когда Счастливая Судьба даровала мне несколько дней, проведенных под одною крышей с Генриком Сенкевичем. Его называли индивидуалистом, он действительно был одинок, но, увидав его вблизи, я понял, как далек от него, потому что хоть и был он один, но отдавал себя всем. А что я мог отдать другим, кроме самого себя? Это очень много – „сам ты“, коли голова твоя полна песнью, как у Мицкевича, или формулами, как у Склодовской. А чем был полон я? Тем „самим собою“, что мал, сломан, обманут и находится в рабстве с детства, которое с годами превратилось в рабство у самого себя. Глядя на Сенкевича, я понял, что лишь одно, лишь литература может помочь мне разорвать рабьи оковы страха. Но ведь Богу дано Богово, а я даже не был Юпитером. Параллельно неудачам на литературном поприще росло тщеславие. Человек, наделенный талантом, которого все знают и чтут, про которого обыватели считают, что ему все разрешено, на самом-то деле не разрешает себе ничего, что входило бы в конфликт с моралью; лишь маленькие люди с большим тщеславием позволяют себе все. Я был таким. Я начал позволять себе все, и на этом меня взяли за руку. И появился Попов. Мы с ним болтали обо многом и обо многих. И я доболтался до того, что отправил на смерть Стефу Микульску. И верил – это правда, – что в ее гибели виноваты Вы. Наверное, я поступаю трусливо и мелко, что ухожу, наверное, честно было бы прокричать всем о том, что я узнал, рассказать о Попове, Стефе, о том мире коварной, доброй, респектабельной лжи, в котором я жил, успокаивая себя тем, что жизнь – щедрый кредитор, что придет удача, а за нею слава, и я смогу расплатиться по всем долгам одним махом. Так не бывает. Но я хочу верить, что в будущем таким искалеченным уродам, каким стал я, не останется на земле места. Я верю, что Ваша нравственность распространится по миру. Люди изнывают оттого, что повсюду царствует сытая безнравственность. Люди ждут Света, они ведь рождены, чтобы царствовать над природой, а не подчиняться ей. Я хочу еще раз предупредить Вас, Ян Эдмундович, что в Стокгольме развивает активность мой „друг“, начальник Попова, некий Груман (или Громан), выдающий себя за дипломата. Я не знаю, где он сейчас живет, но он привез, как я уже сказал Вам, не только меня – смотреть за Вами, знакомиться с Вами, располагать Вас. Один раз, однако, Груман пришел ко мне, когда Вы были на заседании съезда, из чего я заключил, что за Вами и здесь следят, причем, сдается мне, шведские полицейские. Предпримите шаги – мне показалось, что не поверили Вы мне. Верьте. Спасибо за то, что Вы смогли напечатать в „Дневнике“ ту страшную историю злодейства, свершаемого под скипетром царя-„освободителя“. Вы спрашивали меня, поймут ли люди, что это о покойной Стефе; у нас научены читать между строк, а тут и без этих спасительных междустрочий все ясно. И это мое письмо поможет все поставить на свои места. Ведь это я рассказал Попову, что Стефа пойдет по Маршалковской, к Яну Баху, несчастному сапожнику, и каблучки ее… Прощайте. Письмо оставляю у портье. Вы вправе использовать его где и как хотите. Леопольд Ероховский».