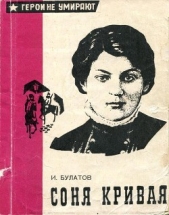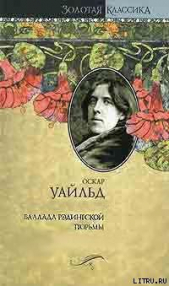Процесс Элизабет Кри

Процесс Элизабет Кри читать книгу онлайн
80-е годы XIX века. Лондонское предместье потрясено серией изощренных убийств, совершенных преступником по прозвищу «Голем из Лаймхауса». В дело замешаны актриса мюзик-холла Элизабет Кри и ее муж — журналист, фиксирующий в своем дневнике кровавые подробности произошедшего… Триллер Питера Акройда, одного из самых популярных английских писателей и автора знаменитой книги «Лондон. Биография», воспроизводит зловещую и чарующую атмосферу викторианской Англии. Туман «как гороховый суп», тусклый свет газовых фонарей, кричащий разврат борделей и чопорная благопристойность богатых районов — все это у Акройда показано настолько рельефно, что читатель может почувствовать себя очевидцем, а то и участником описываемых событий. А реальные исторические персонажи — Карл Маркс, Оскар Уайлд, Чарльз Диккенс, мелькающие на страницах романа, придают захватывающему сюжету почти документальную точность и достоверность.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Как публика? — спросила меня Эвлин, когда я вернулась. Она уже приготовила мой первый костюм, и, скинув повседневное платье, я начала одеваться.
— По-моему, в полном порядке. Готова ко всему.
— Помнишь, как Дядюшка говорил: «Зал блаженствовал»?
— Нечего поминать сегодня Дядюшку, Эвлин. У нас будет представление в совершенно другом духе.
— Кстати, о духе, Лиззи: чуешь, каким духом веет от этой троицы в соседней комнате?
— Чую. Потом я им это припомню, но теперь ничего не поделаешь. Ну-ка, горничная моя, застегни на мне платье.
Я облачилась в великолепное бирюзовое одеяние, символизирующее яркие мечты Кэтрин Горлинс при ее первом появлении в Лондоне; разумеется, я настояла, чтобы Эвлин была одета гораздо более тускло, что соответствует образу моей сестры, злобной старой девы, которая отталкивает меня в мой час беды и помещает в работный дом. Очень скоро я была в совершенной готовности, и, пока ползли минуты и наполнялся зал (крики и возгласы оттуда доносились к нам в уборную), меня обуяла такая лихорадка нетерпения, что я едва не лишилась чувств. Все мысли о неблагодарности Джона Кри покинули меня, и я ощущала только, что в одиночестве приближаюсь к своему мгновению славы. Было почти уже время. Появилась Герти Латимер с «подкрепляющим средством» и, то и дело прерываясь ради огромного глотка портера, принялась описывать битком набитый зрительный зал. Но я едва ее слышала. Вот-вот должны были поднять занавес, и я велела Эвлин, выходя на сцену, держаться позади меня.
— Помни, — шепнула я, — три шага от меня, не ближе, и не вздумай обращаться к залу. Это я буду делать.
Занавес подняли, и оркестрик Герти вывел заунывную мелодию. Я сделала несколько шагов вперед, приставила ладонь ко лбу и печально оглядела зал. Кэтрин Горлинс приехала в столицу.
— Лондон такой большой, такой чужой, такой неуютный. Ах, милая Сара, не знаю, как я смогу его вынести.
— Чарли, чего это там, глянь? — крикнул с галерки какой-то тип, небось из торговцев рыбой; я стала ждать, пока уляжется гомон.
— Сам не пойму. Вроде живое, шевелится.
Другой голос, с самого верха:
— Да это Золушкины сестрички-уродины!
Зал громыхнул хохотом — я всем им головы была готова поотрывать; но я продолжала, стараясь говорить как можно громче:
— Найдется ли когда-нибудь здесь постель, которую я смогу назвать своей, милая сестра?
— Вались на мою — не прогадаешь! — завопил еще один, тоже с галерки, и за гадкой шуткой последовали другие, не лучше. Мне уже было ясно, что я совершила ошибку, зазвав публику с улиц такого мерзкого района, как Лаймхаус; мне казалось, что лондонские низы, из которых я сама вышла, способны воспринять трагедию — но я просчиталась. С первых минут я поняла, что они ожидали от «Перекрестка беды» увеселительного зрелища; весь мой благородный пафос пропадал впустую, на каждую мою фразу они отвечали хохотом, криками и хлопками. Никогда в жизни я не испытывала большего унижения, и в довершение всего трое наших актеров-мужчин стали подделываться под вкус галерки: уловив настроение зала, они ударились в обычное шутовство и отсебятину. С грустью должна сказать, что даже Эвлин не удержалась от низкопробного кривлянья.
Отыграв заключительный акт, я ни о чем не могла помыслить. Я кинулась прочь со сцены и, рыдая, рухнула в кресло у гром-машины. Герти Латимер принесла мне стакан «укрепляющего», и я, стыдно признаться, опрокинула его залпом.
— А, все едино, — сказала она, пытаясь меня утешить. — Трагедия, комедия — все едино. Не принимай близко к сердцу.
— Такие вещи мне не надо объяснять, — отозвалась я. — Я все-таки профессиональная актриса.
Но ужас и омерзение, которые вызвал во мне сброд, заполнивший партер и галерку, не поддаются никакому описанию. Они ожесточили мое сердце навсегда — теперь я могу это сказать точно — и, сопровождаемые раскатами охального хохота, подвели черту под моей сценической карьерой. Но в этом пыточном зале произошло со мной и нечто другое, произошло как раз в миг драматической кульминации, когда я, жалобно стеная, лежала поблизости от Лонг-эйкра. Протянув руки к незнакомой прохожей, которую играла Эвлин в белом платье, найденном нами в театральном гардеробе, я воскликнула:
— Под этими лохмотьями — такая же женщина, как вы! Если вам не жаль меня, сжальтесь хоть над собой!
Публика нашла все это чрезвычайно уморительным, но посреди пьяного смеха и выкриков я вдруг поняла, что изменилась. Словно я была теперь в театре одна, подобно твердому, замкнутому в себе драгоценному камню, который светит даже среди нечистот. Однако постепенно это чувство стало блекнуть, и в адском шуме я вновь ощутила себя такой потерянной, такой несчастной, что яростно стукнула кулаком по доскам сцены, желая пробудить в себе хотя бы боль, идущую из меня, не извне. В свете газовых рожков я увидела лица падших женщин, лица зевающие и ухмыляющиеся, и мне вдруг пригрезилась в них моя собственная неприкаянность и тоска. Я отдала им себя во власть — вот что со мной случилось, — и отдала безвозвратно. Что-то покинуло меня, отхлынуло от меня навсегда — гордость ли то была или тщеславие, не могу сказать.
Я не могла больше плакать. Эвлин и мужчины, уйдя со сцены, имели весьма озабоченный вид, но до них мне не было дела. Я не вышла на вызовы, хотя публика шумно требовала. Как я могла? Пока Эвлин с компанией кланялись и кривлялись, как балаганные уродцы, я быстро переоделась и вышла через боковую дверь. Мне было безразлично, что теперь со мной случится, и я совершенно хладнокровно бродила по самым мерзким закоулкам Лаймхауса, не имея никакой цели, не держась никакого направления.
Глава 41
Джордж Гиссинг набрел на интересное высказывание Чарльза Бэббиджа, когда уже кончал работу над эссе об аналитической машине для «Пэлл-Мэлл ревью». Оно встретилось ему в одном из бэббиджевских предисловий, или «предуведомлений»: «Воздух — это одна огромная библиотека, на чьих страницах навеки записано все, что когда-либо произнес мужчина и что когда-либо прошептала женщина». Он повторял про себя эти слова, идя по сырым, окутанным туманом лондонским улицам; был поздний вечер, и он только что опустил готовое эссе в почтовый ящик редактора Джона Морли на Спринг-гарденс. Он не хотел возвращаться домой через Хейм-маркет, боясь встретить промышляющую жену, и двинулся вместо этого в восточном направлении, к Стрэнду и Кэтрин-стрит. Но по ошибке зашел слишком далеко и оказался в лабиринте улочек где-то недалеко от Клэр-маркета; эту часть Лондона Гиссинг совсем не знал, хотя до его дома была отсюда какая-нибудь миля, и очень скоро он понял, что совершенно заплутал среди узких проулков и тупиков. Несколько бездомных собак выискивали себе пищу в куче гнилых отбросов; на глаза ему попалась какая-то хибарка, и, заглянув внутрь, он увидел, что это лавка старьевщика, тускло освещенная свечой. Посреди помещения на деревянном сундуке сидел старик, такой же ветхий и дряхлый, как понатыканное всюду тряпье; он курил глиняную трубку и за все время, пока Гиссинг стоял в дверях, так и не вынул ее изо рта.
— Скажите, пожалуйста, как пройти на Стрэнд.
Старик молчал, и вдруг Гиссинг почувствовал на своей икре чью-то ладонь. В испуге отпрянув, он увидел двух девочек, сидящих на земляном полу у самых его ног. На них ничего не было, кроме грязного белья, и вид у них был истощенный.
— Помогите нам, сэр, будьте добреньки, — сказала одна. — Нас много, а поесть нечего, только кусок от вчерашней буханки.
Старьевщик ничего не говорил, только смотрел и курил свою трубку. Порывшись в кармане, Гиссинг вынул несколько монет и вложил в протянутую руку девочки.
— Тебе и сестричке, — сказал он.
Хотел потрепать ее по щеке, но она сделала быстрое движение, словно собиралась его укусить, и он поспешно вышел из лавки. Свернув за угол, увидел двоих мужчин в вельветовых пиджаках и грязных шейных платках, которые колотили деревянными палками по трубе дымохода; он не мог понять, что они делают, но казалось, что они занимаются этим уже целую вечность. Заслышав его шаги, они перестали стучать и молча провожали его взглядом, пока он не свернул в другой переулок. Надо было наконец выбираться; он наудачу двинулся по улице, которая была вроде бы пошире, и вдруг услышал свист. Из-под темного навеса перед дверью устричной лавки выступил молодой человек в жилетке с рукавами и полотняной кепке.