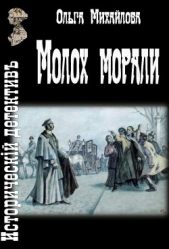Плоскость морали
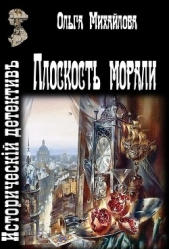
Плоскость морали читать книгу онлайн
Если один человек присваивает себе право распоряжаться жизнью другого, он становится палачом. Иногда даже — палачом Бога. Но эта вакансия занята. Палач Бога — это Сатана, и присвоивший себе право решать, жить или не жить ближнему, сатанеет…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нальянов досадовал на себя: целый вечер у Ростоцкого потерян. Он так и не смог навести разговор с эмансипе на Француза, а между тем Валериан был прав: время уходило. Лицо Юлиана исказилось злостью, он подумал, что если не удастся добиться нужных сведений от Галчинской здесь, в Павловске, недурно бы подставить её под разборки «товарищей»: для этого просто достаточно дать знать тому же Осоргину, неважно, старшему или младшему, что девица выдала подполье. Собственно, своими ухаживаниями у Ростоцкого он старался добиться того же самого, но делал это неосознанно. Сейчас, осознав свои планы, вздохнул.
«Ты сатанеешь…», вспомнились ему слова брата.
Он тогда возразил Валериану, но не мог не понимать, что брат прав. «Холодный идол морали…» Нирод сказал это ему самому в пылу перепалки. Сказал, излишне много зная о нём — по родству. Глупцы истолковали брошенную фразу по-дурацки, но сам Юлиан ни на минуту не обольщался: он хорошо понял старика, хоть тогда отшутился: «Очень сложно быть идолом морали в мире, где давно не осталось морали».
Но вот, старик оказался прав. Ныне он подлинно становился Молохом Морали, он — аскет и моралист, давно начал уничтожать себе не подобных. Он не создавал вокруг себя чистоты — сталкиваясь с ним, возникала смерть. Юлиан некоторое время полагал, что, не имея умысла к злу, сам устоит. Просто нелепый случай отрочества сделал из него палача, полагал он. Он стал Палачом Бога, но эта вакансия была занята дьяволом, и сейчас, Бог весть почему, Юлиан осознал в себе дьявола. Стало быть, да, он подлинно осатанел. Где он ошибся?
— Трифон! — громко позвал он, и когда камердинер возник на пороге, спросил, — слушай, а монах Агафангел — где служит? Я слышал, что тут, в Павловске.
— Тут, — кивнул старик, — он при церкви Марии Магдалины, с протоиереем местным, Василием Шафрановским, служит, спит на чердаке флигеля богадельни, днём — в Мариинском госпитале для увечных воинов помогает, вечерами со старшим врачом Игнатьевым в шахматы играет. Но вчера он в Питер уехал, вернулся ли к службе — не знаю.
— Хорошо, — лениво кивнул Юлиан.
Камердинер исчез. Нальянов, плохо спавший ночь и рано поднявшийся, лёг на диване в гостиной и веки его мгновенно сомкнулись. В мареве вязкого дневного сна угадывались какие-то образы, всплывали эпизоды последних дней, слова брата, с клироса мерно звучал похоронный напев, чёрное лицо покойника мутно виднелось под белой кисеёй. Потом проступило лицо Дибича в поезде, юбилей Ростоцкого, мелькали лица, проговаривались и расплывались слова, потом, откуда ни возьмись, к нему приблизилась полная женщина в светлой кофте с рыхлым лицом и бесцветно-пепельными волосами. Поднялось дуло ружья, он видел её в раздвоенном жале прицела.
Юлиан пробудился от тяжёлой дрёмы, точно от болезни. «Но, хоть и умны вы пугающе, кажется, несчастны очень…» Слова эти не обидели — просто оцарапали. Разве он несчастен? Счастлив ли дьявол?
Туман над ельником давно рассеялся, солнце стояло высоко над липами, и, услышав, как в гостиной пробило три, Юлиан вышел на боковое крыльцо и обернулся на звонкий женский смех. Вот и они. На соседнюю дачу генерала Ростоцкого приехали несколько экипажей, слуги вносили в дом саквояжи и шляпные картонки, девицы Тузикова и Галчинская, замеченные им издали, стояли в изломанных позах, видимо, казавшимися им изящными, шумно восхищались красотой пейзажа. Братья Осоргины тоже мелькнули среди гостей. Звонкие девичьи голоса и смех отдавались эхом в тёмной, росистой чаще сада, где царила глубокая тишина. Где-то далеко, у реки, лаяли собаки. Порыв ветра обломил на вершине старого вяза сухую ветку и она, прошуршав по шершавым листьям, упала на дорожку аллеи. Голоса вскоре смолкли — все, видимо, располагались в доме.
Заметил Юлиан и Дибича. Тот неторопливо вышел за ворота дачи Ростоцкого и направился к его дому. Заметив издалека, помахал рукой. Подойдя, поздоровался и тут же спросил:
— Вы не против, если я переночую у вас, а то в генеральском доме меня с кузенами поселить хотят, — на лице Дибича было расстроенное выражение.
Нальянов кивнул, зная, что с Осоргиными тот подлинно не ладит.
— Конечно, дом пустой, свободных спален два десятка. Располагайтесь. Не занимайте только белый будуар на третьем этаже. Завтра обещала приехать тётя, это её спальня.
Дибич искренне поблагодарил, вернулся в дом к генералу и известил Ростоцкого, что ночевать будет у Нальянова, быстро притащил свой сак и распаковал его в одной из спален на втором этаже. Нальянов не помогал ему, а ушёл к себе и вскоре появился в тёмных брюках, лёгком свитере и щегольской охотничьей куртке, явно собираясь прогуляться. Дибич иронично заметил, что выглядит Юлиан Витольдович как модный тенор итальянской оперы, услышал в ответ предложение катиться к чёрту, но ничуть не обиделся.
Нальянов зевнул и пожаловался:
— Я плохо спал, под окном полночи выла собака. Чуть свет выехал сюда, не выспался.
— В ваши годы, Юлиан, мужчина плохо спит из-за совсем других вещей.
Нальянов недоуменно посмотрел на него, потом усмехнулся.
— А… я и забыл. Голодной куме всё хлеб на уме, — губы его скривились, — и когда же пикник?
— Сегодня вечером хотят наловить рыбы, там, за Сильвией, а завтра — с полудня — развернётся торжество. Холодные куры, ветчина, настоящая уха, ящик крымского вина.
Нальянов, казалось, не слушал, но потом кивнул. Дибич решил пройтись к месту пикника и пригласил на прогулку Нальянова, но тот сказал, что догонит его, а пока — поздоровается с Ростоцким.
Старая Сильвия, поросшая густым хвойным лесом, была частью дворцового парка императора Павла, она, обильно украшенная скульптурами, густыми зарослями деревьев и кустарников, была излюбленным местом пикников и прогулок. В центре её от круглой каменной площадки со статуей Аполлона лучами расходилась дюжина аллей, приводивших то к статуе Актеона, то Ниобы, то к Амфитеатру, то к Руинному каскаду. У паркового павильона в конце Липовой аллеи, на границе Сильвии, зелень листвы создавала множество затенённых уголков.
К павильону мимо траурных чугунных ворот, на столбах которых красовались опрокинутые затухающие факелы, вела уединённая дорожка. Андрей Данилович миновал ворота. Павильон напоминал древнеримский храм-эдикулу, со стороны главного фасада он был прорезан полукруглой нишей. На круглом пьедестале из тёмного мрамора возвышались две белые урны, обвитые гирляндой и укрытые одним покрывалом. Крылатый Гений отбрасывал покрывало, а скорбящая женщина в античной тоге уронила голову на горестно вытянутые руки. Дибич вздохнул. Здесь, у кенотафов, его вдруг перестали волновать суетные мысли. Что он мается из-за девицы, все мысли которой — о другом? Что ему за дело до Нальянова? Впрочем, опомнился он, в конце концов, это и есть жизнь, суета, наполняющая каждый день подобием забот и дела.
Минувшей ночью он почти не спал, стоило ему чуть сомкнуть веки — проступала Елена. Он сжимал её в объятьях, и его ласки вырывали у неё крик, который дышал всем сладким мучением плоти, подавленной бурей наслаждения. В его объятиях она становилась прозрачным существом, лёгким, зыбким, но стоило только кому-то из них сильнее вздохнуть или чуть-чуть шевельнуться, как невыразимая волна пробегала по разгорячённым телам. Это одухотворение плотского восторга, вызванное совершенным сродством двух тел, завораживало его.
Лёжа на спине во тьме, он смыкал веки и звал её всем своим существом, воображал, как она намеренно-медленным движением нагибалась над ним и целовала. Все его члены содрогались неописуемым волнением, в своем напряжении похожем на ужас связанного человека, которому грозит быть клеймёным. Когда же, наконец, уста её касались его, он с трудом сдерживал крик, и пытка этого мгновения нравилась ему.
В пламени этой страсти, как на костре, сгорало всё, что было в нем дурного, искусственного, суетного. После этих пустых блудных лет, он верил в это, он вернётся к единству сил, действия, жизни. Именно в слиянии с ней приобретёт доверчивость и непринуждённость, сможет любить и наслаждаться юношески.