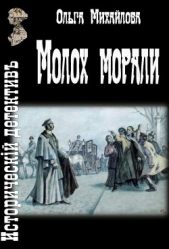Плоскость морали
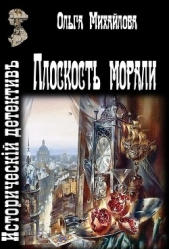
Плоскость морали читать книгу онлайн
Если один человек присваивает себе право распоряжаться жизнью другого, он становится палачом. Иногда даже — палачом Бога. Но эта вакансия занята. Палач Бога — это Сатана, и присвоивший себе право решать, жить или не жить ближнему, сатанеет…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Неожиданно Левашов высунулся из соседней кареты и спросил его, едет ли он на кладбище? Дибич, успев заметить, что экипаж Белецких следует за катафалком, торопливо кивнул и протиснулся в полуоткрытую Павлушей дверь. Минуту спустя он пожалел о своём необдуманном порыве, но потом подумал, что погост в этот погожий апрельский день успокоит его взбудораженные нервы.
Однако погребальный обряд, свершённый тихо и при весьма небольшом уже скоплении народа, ничуть не успокоил. К нему, стоящему особняком у отдалённой могилы, незаметно отдаляясь от родни, подошла Елена Климентьева, и некоторое время молча стояла рядом. Губы её были полуоткрыты и словно задыхались, глаза же казались сонными. Дибич подумал, что есть женские губы, точно зажигающие страстью раскрывающее их дыхание. Наслаждение ли озаряет их или искривляет страдание, — они всегда смущают рассудочных мужчин, влекут их в бездну. Постоянный разлад формы губ и выражения глаз таинственен, двойственная душа проступает двоящейся красотой, аморфной и страстной, изуверски-жестокой и сострадающей, и двойственность эта возбуждает душу, любящую изгибы альковных пологов. Леонардо, беспрерывно погруженный в изучение сокровенных тайн, он единственный воспроизвёл неуловимое очарование подобных уст, уст Джоконды.
— Андрей Данилович, — услышал Дибич и слегка повернул голову к девице, несколько удивившись, что она запомнила его имя, — а господин Нальянов ваш друг? — голос Елены звучал равнодушно, но Дибича не обмануло это деланое безразличие: он видел стиснутые перчатки и дрожь сжимавших их пальцев. Сердце его заныло. Если уж девица решилась спросить такое у него…
Мужчина в нём был оскорблён, но дипломат ответил любезно и искренне, что, впрочем, совершенно не исключало абсолютной лживости сказанного.
— Да, мы знакомы с Юлианом Витольдовичем ещё по Парижу.
Девица больше ничего не спросила, потому что в эту минуту гроб опустили в землю, и её подозвал к себе дядя, князь Белецкий. Дибич тоже подошёл к могиле, бросил на крышку гроба горсть земли и отошёл в сторону, пропуская к гробовой яме Деветилевича и Левашова. Вскоре могильщики стали зарывать гроб, Аркадий Вергольд утробно завыл, сестры покойника зарыдали в голос. Дибич нервно поморщился: плач родных новопреставленного царапал душу, хоть сам Андрей Данилович поймал себя на том, что за всю церемонию отпевания и похорон Вергольда ни разу не подумал о нём самом.
— У вас есть сигареты?
Дибич вздрогнул. Пред ним теперь стояла та самая девица-гимназист, что обратила на себя его внимание ещё у собора — похожая не то на гермафродита, не то на гавроша. Голос её был странно низок, с хрипотцой. Инстинкт дипломата, никогда не подводивший Дибича, помог ему и тут. Он склонил голову в галантном поклоне и ответил, что, к сожалению, не взял с собой ни табака, ни сигарет.
— Здесь немного не место для этого, — пояснил он.
— Мне на это плевать. Женщина фатально осуждена делать то, что ей не хочется: молчать, когда хочет говорить, и говорить, когда она не имеет к тому ни малейшего желания. Она осуждена соблюдать приличия, то есть кривляться. Я не из таких, — ответила она и пошла к толпе.
Дибич оглядел её сзади и поморщился. Он хорошо знал таких поклонниц Жорж Санд, пару раз в Париже опрокидывал их на постель и всегда вставал разочарованным: мужеподобие маскировало бесчувственность, но это полбеды, оно прятало ещё и отсутствие груди и выпуклой попки, а порой — скрывало и откровенное уродство, вроде кривых ног. Дибич не понимал эмансипе: свобода выбора избранников превращалась у них в свободу иметь любовников, но зачем таким амёбам любовники?
Он вздохнул, пошёл к экипажу, стоящему поодаль, и тут услышал негромкий оклик княгини Белецкой. Дибич остановился и с удивлением услышал, что Надежда Андреевна приглашает его в среду к ним на чай. Он выдержал лёгкую паузу, пытаясь смирить волнение, и обещал быть непременно.
Это нежданное приглашение внезапно изменило его планы: он уже не хотел возвращаться с Левашовым и Деветилевичем, захотелось прогуляться и поразмыслить. Андрей Данилович распрощался с дружками, сказав, что заболела голова, и он хочет пройтись, — и пошёл по одной из кладбищенский аллей, то пропадая в тенях едва распустившихся кустов, то выходя в лужицы солнечного света. Он размышлял о приглашении Белецкой. Она сделала это по просьбе Елены, или тому была другая причина? Если он прав в своих наблюдениях, то Елена видит Нальянова далеко не первый раз и явно влюблена в него. Уж не хочет ли она, улучив минуту, поговорить с ним на чаепитии о Юлиане?
Дибич прикрыл глаза и перед ним промелькнули одна за другой чёткие, точно фотографические картинки: Нальянов в купе варшавского поезда, его насмешливые слова за завтраком о женщинах, удивительно легкомысленное признание в нелюбви к ним, его же лицо в церкви, отстранённое и спокойное, язвительные сплетни Павлуши Левашова — «где ни появляется — там паскудит, как кот…», и наконец странные слова Нирода, переданные Ростоцким, — «холодный идол морали».
…В трёх десятках шагов от ворот кладбища Дибич вдруг замедлил шаг. Случилось что-то, чего он не понял, но инстинкт дипломата, не любящего резких движений, заставил его остановиться и сделать несколько шагов назад. Нет, не померещилось. Он брёл мимо мраморных надгробий и гранитных монументов, не читая, а скорее, разглядывая надписи, и заметил это имя, точнее, споткнулся об него, точно о камень. Это был чёрный невысокий квадрат мрамора, окружённый закреплёнными на четырёх столбах чёрными цепями, через которые легко было переступить. Не было ни калитки, ни скамьи, ни венка, ни портрета, ни надгробной статуи с рыдающими ангелами, как на соседних могилах, ни эпитафии, — только имя и дата смерти под ним. И именно это имя подсознательно отметила его душа, замерев на миг и тут же оттаяв. На чёрном мраморе когда-то белыми, а ныне потемневшими от времени буквами значилось: «Лилия Нальянова 1832 — 1864».
Мысли Дибича теперь потекли по совсем иному руслу. Это мать Юлиана и Валериана? Женщина умерла пятнадцать лет назад в тридцать два года. Что с ней случилось? Роковая болезнь? Чахотка? Или несчастный случай? Тут он снова отметил странность захоронения: в мрамор было заковано не только надгробие, но и, чем-то напоминая причал набережной, пространство до цепей. Здесь не росла трава, и негде было посадить цветка, и сама могила, хоть и не казалась заброшенной, ибо её не заглушили сорные травы, несла на себе какую-то страшную печать забвения. Забвения не вынужденного, а продуманного и взвешенного, точно нарочито запланированного, и потому — сугубо леденящего душу.
«Миг застыл — и тянется, не плачем, не молитвою, не раскаяньем, не отчаяньем. Плитою могильною.
Ни лжи, ни истины. Бессонница не церемонится.
Сомкни пустые очи, истлей, покойница…»
Почему-то строки проступили точно под стук вагонных колёс. Потом Дибич подумал, что ему всё это просто показалось. Нервы расшатались, вот и всё. От ворот погоста он снова обернулся на памятник Нальяновой, надеясь, что теперь он сольётся с рядом других, и все эти дурные впечатления рассеются.
Но нет. Своей лаконичной строгостью и каким-то изуверским аскетизмом надгробие всё равно выделялось. Мистика, покачал головой Дибич. Он нащупал в кармане визитную карточку Нальянова. Юлиану сейчас около тридцати. Мать его, если это именно она, умерла, когда он был ещё отроком. Однако Дибич, несмотря на то, что был весьма заинтересован, и мысли не допускал о том, чтобы спросить Юлиана о матери.
Поинтересоваться этим придётся в других местах, подумал он и, выйдя за кладбищенские ворота, крикнул извозчика.
Глава 7. «Холодный идол морали»
Жестокость в сочетании с чистой совестью — источник наслаждения для моралистов.
Вот почему они придумали ад.
Дом Лидии Чалокаевой, вдовы богатейшего питерского фабриканта, был отстроен в классическом стиле. Архитектор не был профаном: сдержанность и гармоничная простота, дерево ценных пород, мрамор и лепнина делали чалокаевский дом на двадцать комнат шедевром архитектуры, хотя сама хозяйка предпочла бы что-нибудь менее величественное, но более уютное.