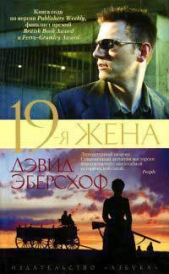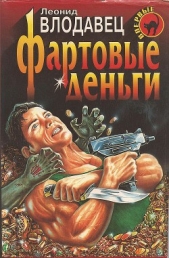Фартовые
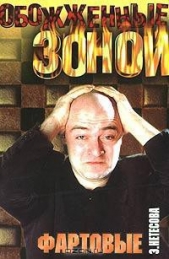
Фартовые читать книгу онлайн
Это — страшный мир. Мир за колючей проволокой. Здесь происходит много такого, что трудно себе представить, — и много такого, что невозможно увидеть даже в кошмарном сне. Но — даже в мире за колючей проволокой, живущем по незыблемому блатному «закону», существуют свои представления о чести, благородстве и мужестве. Пусть — странные для нас. Пусть — непонятные нам. Но там — в зоне — по-другому просто не выжить…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Мне сегодня промысловики знаешь что предложили? Баб нам с тобой подыскать. Чтоб насовсем мы здесь остались. Навроде бугров Заброшенок. Ну и дома по теплу помогут построить. Настоящие. А в трехстенке корову, свиней держать, короче— целое подворье, — говорил Берендей.
— А ты что им сказал? — спросил Харя.
— Да на что мне свиньи иль коровы? Ну, бабу, на время, не мешало бы. А постоянно — нет. Они — как комарье. С виду безобидные. А чуть уши распустил, позудит да начнет кровь жрать.
— Так всегда вышибить можно, под сраку дать, — подал голос Харя.
— Тебе что, возвращаться некуда? — спросил Берендей.
— Не к кому, — невесело вздохнул Федька — Все потеряно. Никому я не нужен. И никакая баба за меня не пойдет. Какой ей от меня понт?
— Чокнутый ты, ей Богу! Да если захотим, таких баб отхватим! А чем мы не мужики? Все при нас! Неженатые были, не вовсе старые. Ну, то что морды малость помяты и сами не первой свежести, так это не беда. Зато все остальное в ажуре, — похлопал себя Берендей ниже живота. И спохватился — Врачиха ж к нам приедет, вот ее и закадрим. Хочешь? Давай зимовье приберем. Чтоб эта баба не ругалась.
Харя быстро смекнул, что врачихе может понравиться Берендей. А если у них склеится, то не уйдет отсюда фартовый. И его, Федьку, не оставит.
Харя помогал Берендею изо всех сил. Протирал окна, отскреб стол и лавку. Берендей, раскорячась, отдирал пол:
«Хоть чем-то время убить. Иначе в этой дыре спятить можно. Дай Харю встряхну, чтоб не зачифирил, паскудник».
А к ночи испортилась погода. Черные тучи загородили звезды. С моря рванул ветер.
Первое его дыхание прошлось по зимовью жесткой рукой. Задрожала, застонала будка. Встревоженно заквохтали в ней куры.
Второй порыв был сильнее.
«Выдержит ли будка пургу? — подумал Берендей. — Ведь тремя рядами поленниц загородил ее от моря. Вровень с крышей. Должна бы выстоять…»
В это время в зимовье открылась дверь, и охотники мигом заскочили в пристройку.
— Мужики, мы у вас пургу переждем. А то палатку может сорвать. «Старик» поднялся, кажется. Три дня не высунуться теперь.
Охотники садились кто где. Грели озябшие руки.
— Чайку бы сообразить, — предложил кто-то из них.
При этих словах, словно по команде, проснулся Харя.
Берендей уже затопил печь, поставил чайник.
— Мы свои пожитки в вашу будку положили.
— Если ее не унесет пурга, цело будет, — кивнул фартовый, ухмыльнувшись.
— А чего рыгочешь? Вон в прошлом году мы так же здесь были. Аккурат под новый год ветер-«старик» поднялся середь ночи. Палатку нашу вначале доверху замел снегом. А потом сорвал и унес в море. Мы и остались, как прыщи на заднице. Сунулись в будку. В ней тогда тоже поселенцы жили. А они, сволочи, в Маню — Ваню играют…
— Лидеры? — спросил фартовый.
— По вашему — педерасты, по нашему — скоты. Ушли мы в ту ночь в поселок. Пешком. Чуть не сдохли от холода. С тех пор на вашего брата, зэка, так и смотрели, ровно на нечисть, — говорил Подифор, самый старый в бригаде охотник. — Ты не обижайся, к тебе это не относится. Вот, глядя на вас, думаешь: побольше б среди свободных таких людей было, — он взял кружку с чаем из рук Хари.
Берендей, накинув телогрейку, носил в зимовье дрова. Топить придется всю ночь, нельзя же, чтоб люди мерзли.
Охотники, согревшись, легли вповалку на спальных мешках. Переговаривались вполголоса. И только Подифор сидел у печки в исподнем, курил самокрутку.
— Давно в промысловиках? — спросил Берендей.
— Всю жисть. Нынче уже тяжко лунки бить. Сам знаешь, море в иных местах до трех метров промерзает. Самое малое — на два. Ну и подумай теперь, каково мне на восьмом десятке приходится? Покуда одну лунку выдолблю, спина колом, руки в кровь, кишки до утра болят.
— А что на пенсию не идешь?
— Пенсия? Да мне той пенсии только на табак. А и без дела не смогу. Весь век работал. Как на пособие уйду, старуха чарку не даст. Запилит, окаянная, что без дела слоняюсь. Вот в промышляю, сколько сил есть. Покуда жив человек, свой хлеб есть должен. Не хочу заглядывать ни в чьи руки.
Харя заерзал на своей телогрейке. Берендей пил чай молча, смотрел на огонь, пылающий в печи. Он не слышал сказанного, думал о своем.
Выла пурга над зимовьем, смешав черноту неба с темнотой
тайги. Надувал ветер в ночи каждому дереву огромные сугробы, стегал по верхушкам и кронам жестким колючим кнутом. Деревья охали, стонали, скрипели. И одно рухнуло, задрав кверху гнилые корни.
Так и человек: в шторме жизни выстаивает лишь крепкий, сильный.
Там, поодаль, плачет на ветру старая пихта. Если б не ели, давние подружки, давно бы высохло сердце. Да ели не дают скучать, защищают, загораживают подружку. И как не горьки ее стоны в жестокую пургу, никогда дерево не просило смерти у неба. Жизнь! Она хоть и шла к закату, но радости тайги по- прежнему грели сердце.
Вот пурга уже над корягой, что срамным чертом из-за деревьев выставилась. Когда-то коряга была корнями могучей ели, но пришел срок и повалила ее такая же пурга. Задралась коряга рогами из земли. Всему живому насмех. Но вскоре и под нею жизнь закипела. Заяц нору вырыл. Глубокую, теплую. Л под корягу лиса не сунется. Боится. Лишь заяц знает в ней каждый сучок. Потому и живет спокойно.
Но и косой не знает великой радости коряги: этой осенью упало под нее семечко сосновое. И пригрелось. Полюбилось ему здесь. Коряга его теплой трухой присыпала. От чужих глаз мхом завесила. Пусть не кровной, а все ж мамкой стала. Значит, и рогатая, и старая, а нужна еще…
Плачет пурга над тайгой. Спит, свернувшись в клубок, белка. Животом троих бельчат греет. Уж совсем было хотела новое дупло искать этой осенью. Да дятел поработал, вылечил дерево. И не пришлось белке уходить из обжитого дома.
Спряталась в дупле, неподалеку от беличьего, старая сова. Сколько ей лет, никто вокруг не помнил. Все живое в тайге парами живет, и только она — одна. Потому что у нее характер— дрянь. Чуть задремлет зверье, сова, как назло, распустит крылья-метелки, полетит мимо гнезд, нор, дуплянок да как ухнет жутким голосом. Все птенцы просыпаются. Ругают эту сову на все голоса. Обзывают, а она знай свое. А все от зависти. Плохо ей, пусть другим хорошо не будет.
Вот эту жизнь никто, кроме старой елки, не любит. Никто ее в гости не ждет, не пожалеет. Но ель сове всех заменила. Плохая иль хорошая, а своею стала.
Нет в тайге лишней, ненужной жизни. Каждая дорога, любая— своя кровинка в большой семье. Всякая жизнь — цветок и украшение. Вот так бы у людей…
Свирепствует пурга. С тайгою ей трудно совладать. Тут все друг за друга держатся крепко. В одном кулаке. Его не разжать, не расщепить. С людьми куда как проще. Они не умеют
дорожить жизнью, а потому живут меньше тайги. Видно, от того, что тепла у них маловато.
Гудит пурга над зимовьем. Бьет по крыше ледяным кнутом. Рвется в подслеповатое окно, оскалив черную пасть. Ругается, пугает. Но бесполезно. Никто не боится ее.
Спят в зимовье охотники, раскинувшись на полу. В пристройке жарко, как в бане. Мужики до нательного раздеты. И лишь один, Берендей, не спит. Чтоб спали другие. Должен кто-то из людей заботиться об этом.
Фартовый… Буйная головушка. А вот теперь сидит у печурки, выстругивает топорище из березы, чтобы даром время не шло и не заснуть ненароком.
К спящему, безмятежному чаще всего беда подкрадывается. Хватает неожиданно за горло мертвой хваткой. Потому у покоя Других должен быть сторож.
— А ты чего не спишь? — поднял от подушки седую голову Подифор.
— На шухере я, дед. На стреме, значит. А ты спи. Я посижу.
Белые стружки крутыми завитками падают на колени, ложатся к ногам. Вот теперь, сложись жизнь иначе, были бы у Берендея внуки и внучки, ну хотя бы одна, светловолосая, вот в таких же завитушках-локонах, с глазами синей морской волны, со смехом звонким, прозрачней росы.
Но нет, никто не назовет его дедом. Не вложит теплую, как жизнь, дорогую ладошку в огрубевшие, жесткие руки. Упущено время. Промотал бесплодно годы по «малинам» и тюрьмам. Этого уже не вернуть. Лишь с виду мужик, но уже… Перестойный. Как дерево. Прошло время и нет от него проку. Высохнет и упадет молча, без крика. Была жизнь. Да что в ней вспомнить?