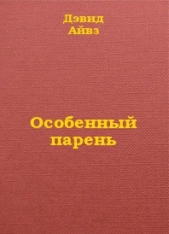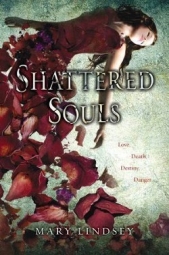Кто-то, с кем можно бежать
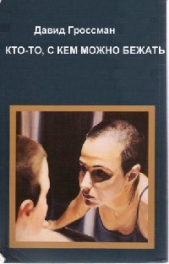
Кто-то, с кем можно бежать читать книгу онлайн
По улицам Иерусалима бежит большая собака, а за нею несется шестнадцатилетний Асаф, застенчивый и неловкий подросток, летние каникулы которого до этого дня были испорчены тоскливой работой в мэрии. Но после того как ему поручили отыскать хозяина потерявшейся собаки, жизнь его кардинально изменилась - в нее ворвалось настоящее приключение.
В поисках своего хозяина Динка приведет его в греческий монастырь, где обитает лишь одна-единственная монахиня, не выходившая на улицу уже пятьдесят лет; в заброшенную арабскую деревню, ставшую последним прибежищем несчастных русских беспризорников; к удивительному озеру в пустыне...
По тем же иерусалимским улицам бродит странная девушка, с обритым наголо черепом и неземной красоты голосом. Тамар - певица, мечтавшая о подмостках лучших оперных театров мира, но теперь она поет на улицах и площадях, среди праздных прохожих, торговцев шаурмой, наркодилеров, карманников и полицейских. Тамар тоже ищет, и поиски ее смертельно опасны...
Встреча Асафа и Тамар предопределена судьбой и собачьим обонянием, но прежде, чем встретиться, они испытают немало приключений и много узнают о себе и странном мире, в котором живут.
Давид Гроссман соединил в своей книге роман-путешествие, ближневосточную сказку и очень реалистичный портрет современного Израиля. Его Иерусалим - это не город из сводок политических новостей, а древние улочки и шумные площади, по которым так хорошо бежать, если у тебя есть цель.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В заключение она спела своё соло, которое у неё отняли, её любимое соло из "Стабат Матер" Перголези. Именно этим решила закончить, чистыми звуками, прозрачными, как хрусталь. В этот раз никто не смеялся, и пение снова было тем единственным, что полностью вмещало её всю. Тысяча уроков не дала бы ей этого ощутимого знания: голос был её местом в мире. Домом, из которого она выходит и в который возвращается, в котором она может быть вся целиком и надеяться, что её будут любить за то, что она собой представляет, и вопреки тому, что она собой представляет. Если бы я должна была выбирать, быть счастливой или хорошо петь – писала она однажды в дневнике, когда ей было четырнадцать лет – у меня нет никакого сомнения, что бы я выбрала.
Одно чудесное мгновение, внутренний покой и умиротворённость, а потом она начала приходить в себя и вспоминать, где находится. Увидела курчавую голову Мико, медленно движущуюся между рядами, и тут же изо всех сил сомкнула ресницы, она пела, зная, что её голос сейчас заставляет кого-то из публики забыться на минуту, и понимала, что это значит, слова "соучастие в преступлении" журчали в ней, а она продолжала петь.
Закончив, чуть не упала от головокружения и взволнованности. Расправила на земле шапку. Согнувшись на минуту в сторонке, прижалась всем телом к Динке, набираясь от неё сил. Люди сгрудились вокруг неё. Кричали ей: "Браво!" Вся шапка покрылась шекелями, и, впервые за всю её карьеру, там даже зеленела двадцатка. Она собрала всё в рюкзак, но они просили петь ещё. Вместе ритмично кричали ей: "Ещё! Ещё"
У неё уже не было сил, слишком много чувств струилось в ней, и они видели, и всё равно не уступали. Знали, что сейчас получат её последнюю вещь, самую-самую. Она была красная и растерянная, и вся блестела, будто сбрызнутая росой. Они аплодировали, и она смеялась. Она была сейчас перед публикой в другом месте. В месте возбуждённом, восторженном, и опасном для неё; потому что когда она выступает с хором, она хорошо защищена со всех сторон от разложения и позора, которые иногда бывают в эту минуту. А в некоторых залах ещё и занавес опускается, скрывая от публики опьянение, которое наступает потом. Здесь занавеса не было. Она стояла среди них, и они бессовестно насыщались чем-то, что было в ней, что она могла ощущать только, когда они так высасывали её. И была в этом такая возбуждающая и питающая сила, что она испугалась, что уже отдала слишком много, и что-то ушло безвозвратно.
И поэтому она спела им на бис маленькую и скромную песню, французскую детскую песенку о пастухе и пастушке, о пастухе, который нашёл в долине маленького козлёнка и возвращает его пастушке с маленьким условием: поцелуй в щёку. Эта песня очистила её, заставила прийти в себя. Она увидела Мико, удалявшегося оттуда лёгким шагом с оттопыренными карманами брюк. Её глаза следили за публикой. Откуда на этот раз придёт крик о помощи. Укол вины в сердце. Как она выдержит это и не признается тут же и немедленно перед всеми. Но у неё есть задание. У неё есть роль. Эти слова она повторяла про себя, когда пела наивную песенку, и только благодаря им сумела быть невинной, милой и пленительной; и только благодаря своему богатому опыту смогла удержаться и не запеть то, что кто-то громко кричал в ней, как ты можешь, ты, со всеми твоими принципами, с твоей требовательностью ко всему миру...
- Неплохо, - хмыкнул Мико, когда она протянула ему пакет так, будто была больна заразной болезнью, - всё же чему-то научилась, только в следующий раз покороче.
Он молча считал. Только губы его двигались.
- Ничего себе, - сказал он ей через зеркало, - ты сегодня сделала сто сорок шекелей. Приходи каждый день.
Она с отвращением отвернулась от него. Боялась, что её вырвет. На сиденье рядом с ним валялся коричневый бумажник, раскрытый. На один миг она увидела там маленькую фотографию – это был снимок того смешливого мальчика из кафе.
Она уже начала сомневаться, что когда-нибудь встретит там Шая. Через неделю после прихода в заброшенную больницу она уже точно понимала, о чём говорила Шели в первый день: она втянулась. Бывало, что она часами даже не думала, почему находится там, ради кого. И о своей прошлой жизни она тоже почти не думала: как канатоходец, которому нельзя смотреть вниз, в пропасть под ногами, она отметала любую мысль о родителях, о людях, которых любила, о хоре, даже об Идане. За эту неделю она проехала тысячи километров по всей стране. Она насчитала девять разных водителей, возивших её, была в Беер-Шеве, и в Цфате, и в Афуле, и в Араде, и в Назарете. Научилась есть во время езды, не испытывая обычных для неё приступов тошноты, и спать каждую удобную минуту, свернувшись, как груда тряпья, на заднем сиденье. Она научилась петь пять, и шесть, и семь раз в день, не срывая голос, и, главное, научилась молчать.
Она, с её болтливостью. Этому её начал учить Мико, отвесив ей две пощёчины. Потом она усвоила, что и ребятам не всё можно говорить, и, как предупреждала Шели, лучше не задавать вопросов; каждый из находящихся там, в общежитии, был так или иначе ранен. Каждый из них избежал какой-нибудь трагедии. И под грубостью и крикливостью этой большой компании тщательно хранились правила поведения, в которых было немало сострадания и благородства. Каждый вопрос о доме, из которого ты пришёл, сбежал или был выгнан, вызывал новые волны боли и бередил раны, которые, может быть, уже начали затягиваться. И каждый вопрос о том, что с тобой будет, куда ты отсюда пойдёшь, что ждёт тебя в жизни – вызывал отчаяние и страх. Она очень быстро ощутила, что прошлое, а также и будущее, здесь "вне пределов досягаемости": общежитие Песаха существовало в измерении постоянного, продолжительного настоящего.
Это ей как раз подходило, она тоже боялась, что каждое лишнее слово её выдаст. Может быть, поэтому её дружба с Шели стала слегка сдержанной. Иногда рано утром или поздно вечером – прежде, чем Шели, как она говорила, "расплющивалась, как помидора, на кровати" – они обменивались несколькими словами, впечатлениями от прошедшего дня, чувствуя, что обеим очень хочется сказать больше, поговорить по-настоящему, и сами себя останавливали, понимая: они так же, как и все, кто сюда пришёл, испытали на себе предательство со стороны самых близких им людей, и они тоже усвоили урок: бывают ситуации, когда ни на кого нельзя по-настоящему надеяться. Как сказал кто-то? Каждый сам за себя.
В такие минуты они обменивались выразительными взглядами, полными боли: и ты, и я – одинокие партизанки, пытающиеся выжить на вражеской территории и боящиеся открыть свою тайну чужому. И каждый человек – чужой. Даже такой милый, как ты, Тамар, как ты, Шели. Прошу прощенья. Даже я. Очень жаль. Может, когда-нибудь. Хорошо бы. В другой жизни, в другом воплощении...
Не все были одиноки, как она. Она заметила, что там были друзья, пары; были даже три "семейные комнаты", были группы маленькие и побольше. Возле столовой была комната, служившая подобием клуба, в которой парни и девушки играли в пинг-понг и нарды, а Песах пожертвовал улучшенный кофейный автомат и пообещал вскоре привезти компьютер, такой, на котором можно даже писать музыку. Она слышала, что по ночам иногда устраиваются вечеринки в комнатах, и знала, что люди вместе курят и вместе играют; со своей обычной позиции стороннего наблюдателя она видела, с какой радостью они встречаются друг с другом вечером в столовой. Сближение, объятие, руки, обнимающие спину, похлопывание, ещё одно, эй, брат, как дела, классно. И на мгновения, в её одиночестве там, даже это могло вызвать в ней зависть.
Но то, для чего она пришла сюда, оставалось далёким и недостижимым, как и в первый день.
Когда ещё жила дома и только планировала это дело, она была уверена, что будет действовать здесь, не переставая - думать, разгадывать, увязывать факты. Но как только она поселилась в общежитии, её мозг стал медленным, тяжёлым и невидящим. Таким невидящим, что иногда её охватывал страх, что она останется здесь навсегда, втянутая в магический круг выступлений и сна, и постепенно совсем забудет, для чего пришла сюда.