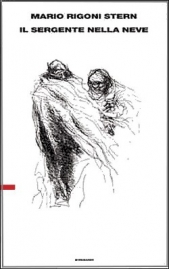В снегах родной чужбины
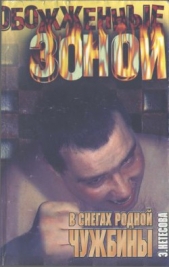
В снегах родной чужбины читать книгу онлайн
КАК становятся бандитами?!
Как обычный мальчишка, закрутившийся в вихре «блатной» жизни, превратится, много лет спустя, в отпетого, отъявленного вора, которому «тюрьма — дом родной», которого уважают и на свободе, и «на зоне»?
Судьба?! Но «фартовый народ» не верит в судьбу, он верит только в удачу!
Что же — и когда же — все-таки случилось? Перед вами — настоящий «путь вора». Путь человека, однажды изверившегося в законе обычном — и тем более свято блюдущего «закон» блатной!
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— В «хвосте» держат, — признался честно.
— Я тоже с этого в «малине» приклеился. У магаданского Дяди. Слыхал о нем? Я у него в «зайцах» две зимы дышал. Ну, ботаю тебе, время было! Меня ж по рыжине моей не то, что лягавые, все волки в тундре издалека узнавали. Да и мурло приметное. Второе такое разве у Медведя — булыжником не расшибешь. Бывало, накроет «малина» банк, все лягавые за мной несутся усравшись. Знали, падлы, только меня фартовые уважали, держали на атасе! А эти мусора за мной линяли! Я же срываться долго не мог. Пробегу немного и шлеп на жопу. Менты через меня кувырком. Друг другу шишки набивают. Пока разберутся, что к чему, я уж свою задницу на другой конец города унес. И навар-положняк наполовину хавал. Зато когда в закон приняли, уже в ходке, в зоне, я все тонкости воровские познал. И, трехаю тебе, нет на свете места файнее для фартовых, чем Колыма!
Федьке от таких слов холодно стало.
— Че? Не темнуха! Я сам там приморился давно. У нас рыжухи хоть жопой глотай. И ничего не ссы, кроме одного, чтоб срака самородком не подавилась!
— Зато и срываться с Колымы тяжко. Ни поездов, ни машин. А самолетом золото не провезешь, — заметил Федька.
— Еще как! Без булды! И никто не дрогнет. Лягавые еще под козырек возьмут. Я этой рыжухи знаешь сколько спер? Во мне самом столько весу нет. Не зря на Колыме приморился, хоть этот навар за все свое снимаю оттуда.
— Эй, Федька! — схватил за локоть Влас. И, развернув бесцеремонно, сказал: — Я тебя еле надыбал! Хиляем! Кенты уже на хазе! Шмар заказали файных. И тебе обломится. Шевелись, пока теплые.
Он приволок Федьку в какую-то квартиру, где пьяные фартовые лапали накрашенных полуголых девиц. Те визжали коротко. Быстро уламывались.
— Эй, Симка! Сбацай, лярва, цыганочку! — потребовал Влас и, вытащив из-за стола совсем голую сисястую девку, легко подхватил ее за жирную задницу и поставил на стол среди тарелок, блюд, стаканов.
— А ну, изобрази! — дернул кто-то по струнам гитары.
Симка, оглядевшись, медленно, плавно закружилась. Потом будто во вкус вошла. Притопывала ногами в селедочнице, салатницах, разбрызгивая закуски. На эти издержки никто не обращал внимания. Рявкнула гитара, и Симка закрутилась среди бутылок, затрясла сиськами, изогнулась так, что Федьке неловко стало. А шмара, увидев, как покраснел мужик, вовсе оборзела, словно забыла, что не в юбке, у всех на виду.
— Хороша мамзель! Краля! Ай да Симка! — похваливал Влас, и девка, словно заводная, тряслась, как будто ей к заднице горячую сковородку прицепили.
— Кого сегодня выбираешь? — спросил Влас.
Девка обвела всех томным взглядом и указала на Федьку.
— Его хочу! Свежака! Иди, баловень! — Она взяла его за руку и потащила за собой в зашторенную темную комнату.
— Эй, кент! Не опозорь честь нашу! — услышал он дружный хохот за плечами, а Симка, поспешно захлопнув дверь, обвилась вокруг Федьки потным, липким телом.
Лишь поздней ночью вышел он из комнаты. Симка спала, открыв в улыбке накрашенный рот.
Фартовые пили за столом, менялись девками, хмелели. Хватали за зады и колени всех шмар без разбору. Они знали — их отдых всегда короток. И встреча с этими шмарами может больше никогда уже не повториться. Куда уже завтра забросит их судьба? В Одессу иль Киев? А может, в Сочи? Дорога к теплому морю чаще вела через холодную Колыму, куда попадали фартовые не самолетами, не по собственному желанию, а под конвоем мрачной охраны.
Всей этой прозы, второй стороны воровской жизни, Федька пока не знал. Не понимал, почему так ненасытны фартовые на еду, выпивку и баб. А они понимали: все это может оборваться в любую минуту на долгие годы, быть может, навсегда.
Лишь здесь, в Ростове, узнал Федька от воров, что Влас никогда не был паханом — хозяином «малины». Его держали в стопорилах. Он убивал всех, кто мешал ворам. И даже «в дело» брали его лишь тогда, когда не могли обойтись без убийства. Сами фартовые не мокрушничали никогда. Но в каждой «малине» имели по нескольку стопорил.
Влас приводил в «малину» новичков, как и другие. За всякого «свежака» отвечал собственной головой перед паханом и фартовыми. Если тот «лажался», на стопорилу во время разборки находился другой стопорило, который по слову фартовых убирал «проколовшегося».
Узнав о том, Федька понял, почему везде и всюду следил за ним Влас, не доверял даже в мелочах, не спускал глаз. И учил всему.
Узнал он и о том, как попал Влас в «малину», как стал стопорилой. Об этом Федьке рассказал в Ростове сам Влас в перерыве между попойками. Не сразу разговорился. Лишь через несколько дней, когда заметил, что у трезвеющего Федьки опять начался приступ хандры.
— Опять в прошлое линяешь вместе с колганом? Кончай киснуть, кент! Что оно тебе? Дышал, как последний хмырь! Курил махорку, хавал картоху, из резиновых сапог не вылезал. Одни портки годами носил. На праздники прадедовское барахло из сундука выволакивал. Свое не на что было купить. Так о чем киснешь? Теперь и хамовка и барахло — шикарные. Шмар имеешь. Башлей — хреном не поднять. Ты в своей вонючей деревне помечтать о таком не мог. Благодари Господа, что я тебе нашелся. В люди вывел. Свет показал. Мне в свое время никто не помогал. И уж если по чести, то не равнять тебя со мной. Я — человеком был. И тогда. Не в «малине» на свет появился. Светло дышал. Да судьба-сука осечку дала. — Он понурил голову.
Выпив одним духом стакан водки, Влас вздохнул тяжело и продолжил тихо, словно самому себе рассказывая о своем прошлом:
— Отец мой большим человеком был, царствие ему небесное! Да в тридцать седьмом расстреляли. Забрали ночью, ничего не сказав. А на второй день замокрили. Вечером вломились в квартиру и все забрали чекисты-падлюки. Конфисковали. Так тогда это называлось. По-нашему — сделали налет. Да и как иначе, если даже материно нижнее белье отняли? Все выгребли. Ни лечь, ни присесть стало не на что. Из квартиры в коммуналку выбросили. Как собак. И тоже — врагов народа приклеили. Ну, а я тогда в авиационном институте учился. На четвертом курсе. Невесту имел. Уже решили пожениться с нею. Но… Уже на следующий день, как только мы отца похоронили, выбросили меня из института, сказав, что не только в небе, но и на земле таким, как я, места нет. По глупой молодости поперся к отцовским друзьям, сослуживцам. Всех их знал. Все у нас бывали частенько. Они — хари от меня отворачивали. Перестали узнавать, разговаривать, слушать отказались, паскуды! Поплелся к отцу невесты своей. Хотел хоть у него найти понимание. Защиты семье попросить. Он в то время важной птицей был. Мог вступиться. Вышел он в прихожую, а дальше не пустил. Сказал, что ему со мной говорить не о чем. Мол, очень сожалеет о знакомстве с негодяями и потребовал забыть адрес и имена. О невесте чтобы и во сне не заикался. «Моя дочь не свяжет свою судьбу с проходимцем! Не смей даже напоминать ей о себе!» — орал на меня, скотина!
Влас, вспомнив это, выпил еще стакан водки, но хмель не брал.
— Хотел я тогда ей в глаза глянуть. Убедиться, что послушала отца, а не свое сердце. Но не удалось. Вернулся в коммуналку. А там — бабья разборка. Соседки прогнали мать от плиты. Не дали чай вскипятить. Мол, обойдетесь, вражины, и без того. И воду, хорошо, что закипеть не успела, матери, в лицо вылили…
Федька похолодел, свое вспомнил.
— Хотел я тогда всех соседок размесить, да мать на руках повисла — не дала. Уговорила, увела в нашу комнатенку. А там и куска хлеба не было. Ну, хоть вой! Попытался устроиться на работу — не взяли никуда, словно в один день из человека в черта превратился, отовсюду выталкивали. А и загнать нечего. Вот и настали для меня черные денечки. От голода в голове мутить стало. Сам не знаю, как оказался ночью на мосту. Верно, сброситься хотел. От горя, от безвыходности. Стою, держусь за перила. Глядь, человек бежит. Сумку к себе прижимает. За ним — двое лягавых. Свистят, аж в ушах заболело. Ну, думаю, хоть этот не дал все у себя забрать. Что-то уносит от конфискации. И такая злоба взяла меня на мусоров, дух перехватило. Едва поравнялся первый, я ему за свое кулаком по колгану въехал. Второй не успел опомниться, я ему в дых всадил. Обоих под мост скинул. Убегавший тут же остановился. Позвал меня. И с собой поволок. Так-то познакомился с ворами. Они как узнали, почему им помог, долго хохотали. Но взять меня в «малину» не решились тогда. Боялись политических. Не связывались с ними. Но за помощь хороший положняк отвалили. Не краплеными. Хотя я им помог донести инкассаторский навар. Взял я тогда свою долю и домой вприскочку. Ну, думал, утром мать накормлю всякими деликатесами. И увезу из коммуналки куда-нибудь далеко, где нас никто не знал. Смотрю, а мать лежит тихонько на полу, даже головы не подняла, когда вошел. Не услышала, спит, дай, думаю, разбужу, обрадую, что кончились наши муки, покажу ей деньги. Попрошу, чтоб до утра потерпела. Тронул за руку. А она холодная, как лед. Я перевернул. Мать лежала с открытыми глазами. Она не спала, она умерла. Не дождалась меня. От горя и холода… Среди людей умерла. В городе, где родилась. Не на чужбине. Только вокруг нас были не люди — звери. В помойных ведрах, когда я вышел из нашей комнаты, валялись куски хлеба… — Влас сдавил виски руками. — Когда мать выносили из комнаты, соседки даже не попрощались. Цедили сквозь зубы, что одной контрой меньше стало, что жилье для порядочных людей нужно. Ждали хороших соседей. Меня уже в расчет не брали. Вроде уже и не живу.